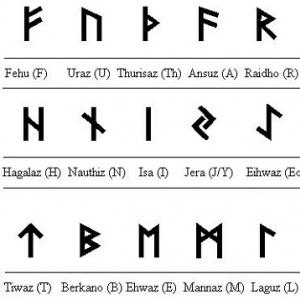Иоганн Вольфганг ГЁТЕ Жизнь Гёте как личность Философия. Философия Гёте и Шиллера Иоганн вольфганг гете основные идеи кратко
ГЁТЕ (Goethe) Иоганн Вольфганг фон (28 августа 1749, Франкфурт на Майне – 22 марта 1832, Веймар) – немецкий поэт и естествоиспытатель. Что «философия Гёте» – тема, предваряемая целым рядом оговорок, доказывается не только отсутствием у Гёте философии в общепринятом смысле слова, но и его открытой враждебностью ко всему философскому. Академическая философия лишь следует собственным его заявлениям, когда она отказывается аттестовать его как одного из своих: «Для философии в собственном смысле у меня не было органа» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R.Steiner. Dornach, 1982, Bd 2, S. 26), или: «Собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии» (Goethes Gespräche. Münch., 1998, Bd 3, 2. Teil, S. 158), или еще: «Она подчас вредила мне, мешая мне двигаться по присущему мне от природы пути» (Goethes Briefe. Münch., 1988, Bd 2, S. 423). Очевидно, однако, что эти признания допускают и более эластичное толкование, особенно в случае человека, который, по собственным словам, ничего не остерегался в своей жизни больше, чем пустых слов. Если философское мышление обязательно должно быть дискурсивным и обобщающим, то чем оно может быть менее всего, так это гётевским. Гёте, «человеку глаз». чужда сама потребность генерализировать конкретно зримое и подчинять его правилам дискурса. В этом смысле правы те, кто считает, что он никогда не идет к философии. Можно было бы, однако, поставить вопрос и иначе, именно: идет ли (пойдет ли) к нему философия? В конце концов важна не столько неприязнь Гёте к философии, сколько нужда философии в Гёте, и если историки философии обходят почтительным молчанием автора «Учения о цвете», то обойти себя молчанием едва ли позволит им автор «Наукоучения», уполномочивший себя однажды обратиться к Гёте от имени самой философии: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство – пробный камень ее» (Fichtes Briefe. Lpz., 1986, S. 112).
Особенность, чтобы не сказать диковинность, мысли Гёте в том, что он в пору наивысшей зрелости и ощутимого конца философии философствует так, как если бы она и вовсе еще не начиналась. Понятно, что такая привилегия могла бы в глазах историков философии принадлежать философам, вроде Фалеса и Ферекида Сирского, но никак не современнику Канта. Другое дело, если взглянуть с точки зрения беспредпосылочности, или допредикативности, познания, с которой новейшую философию заставила считаться феноменология Гуссерля. Гётевское неприятие философии относится тогда не к философии как таковой, а лишь к ее дискурсивно измышленным предпосылкам. «Люди (можно читать: философы. – К. С. ) так задавлены бесконечными условиями явлений, что не в состоянии воспринимать единое первичное условие» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 5, S. 448). В свою очередь, предпосылки гётевского философствования, которое он никогда не мыслил себе раздельно с жизнью, производят на академически обученного философа впечатление некоего рода «святой простоты». Таково, напр., неоднократно повторяемое и возведенное до основополагающего принципа требование: «Видеть вещи, как они есть» (Goethe . Italienische Reise. Lpz., 1923, S. 141). Дело вовсе не в том, что этот принцип диаметрально противоречит, скажем, коренной установке кантовской философии. С ним можно было бы посчитаться, если бы он осуществлялся в рамках некой общей и гомогенной философской топики, как, напр., у Гуссерля, где даже в радикализме лозунга: «Назад к самим вещам!» дело шло больше о теоретически востребованном переосмыслении судеб западной философии, чем о «самих вещах». У Гёте он вообще ничему не противоречит и утверждает себя силой собственной самодостаточности. Гёте – наименее филологичный из людей – есть философ, который мыслит глазами, и значит: не в словах, а в вещах , тогда как большинство людей – и философов! – делают как раз обратное. (§ 754 «Учения о цвете». «И однако сколь трудно не ставить знак на место вещи, всегда иметь сущность живой перед собой и не убивать ее словом».)
Возможность гётевской философии (ее, говоря, по-кантовски, quid juris) коренится, т.о., не просто в мыслимости ее этоса, а в осуществимости последнего. Очевидно, при всей парадоксальности, что словесный пласт философии Гёте, или ее дискурс , представлен некой спонтанной цепью отклонений от правил философского поведения, как если бы он знакомился с философией не в работе над ее первоисточниками, а из сплошного негативного опыта конфронтаций своих созерцаний с ее понятиями. Характерен в этом отношении его разговор с философски образованным Шиллером, во время которого ему должно было открыться, что он «имеет идеи, сам Того не зная, и даже видит их глазами». Возникает неизбежная альтернатива: либо рассматривать «философию Гёте» в линии философской традиции (где она окажется, самое большее, эвристически небезынтересной), либо же предварить тему вопросом о специфике гётевского типа познания. В последнем случае решающим оказывается не теоретическое «что можно» и «чего нельзя», априорно обусловливающее всякую философскую рефлексию, а некий самодостаточный опыт, расширяющийся до природы и осознающий себя в идеале как человеческую индивидуальность самой природы, нисколько не смущаясь собственной (философски визированной) «субъективностью». Интересно рассмотреть этот опыт по аналогии с кантовским понятием опыта. Исходный тезис Гёте: «Все попытки решить проблему природы являются, по существу, лишь конфликтами мыслительной способности с созерцанием» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 2, S. 200), совпадает, если заменить «конфликты» «синтезами», с кантовским. Но уже со второго шага налицо расхождение. Кант отталкивается от теоретического представления о «нашем» устройстве, Гёте от непосредственной данности своего устройства. По Канту, «наш» рассудок устроен так, что созерцания без понятий слепы, а понятия без созерцаний пусты. Гёте осознает свое устройство совершенно иначе: «Мое мышление не отделяется от предметов, элементы предметов созерцания входят в него и внутреннейшим образом проникаются им, так что само мое созерцание является мышлением, а мышление созерцанием» (ibid., S. 31). С точки зрения «Критики чистого разума» подобное мышление есть не что иное, как метафизическое мечтательство; § 77 «Критики способности суждения» смягчает вердикт: созерцающее мышление теоретически не содержит в себе противоречия, т.е. можно мыслить его существующим. Аналогия со ста воображаемыми талерами, в которые обошлось Канту опровержение онтологического доказательства, напрашивается сама собой. Эккерман (11. 4. 1827) приводит слова Гёте: «Кант меня попросту не замечал».
Реальность, а не просто мыслимость созерцающего мышления у Гёте есть, т.о., вопрос не теории, а опыта, причем не понятия опыта, а опыта как делания. Там, где теоретически постулируется слепота созерцаний и пустота понятий, налицо вытеснение реального феномена теорией и, как следствие, «конфликты» обеих половинок познавательного целого. Теория, понятая так, негативна и представляет собой, по Гёте, результат «чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который охотно хотел бы избавиться от явлений и поэтому подсовывает на их место образы, понятия, часто даже одни слова» (ibid, Bd 5, S. 376). Настоящая теория тем временем не противостоит вещам, а осознает себя как их «сущность»: «Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория: синева неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение» (ibid.). Все злоключения философии проистекают от того, что опыт отрезается от самих вещей и подменяет вещи словами. «Вместо того чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и постепенно делается столь же непонятной, как последняя» (Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd 36, 4. Abt., S. 162). Что участью философии на этом пути могло быть лишь ее самоупразднение, стало ясно в свете ее дальнейших судеб, сначала в позитивистических диагнозах философии как «болезни языка» (Ф.Маутнер, Л.Витгенштейн), а после уже и в полном ее растворении во всякого рода «играх» и «дискурсах».
В свете изложенного проясняется, наконец, отношение к Гёте немецкого идеализма. Судьбой этого идеализма было противостоять натиску материалистически истолкованной физики с чисто метафизических позиций. Понятно, что в споре с ним кантианство могло уже хотя бы оттого рассчитывать на успех, что исходным пунктом его был факт естествознания, а не воздушные замки неоплатонических спекуляций. Эвристически допустим вопрос: как сложились бы дальнейшие судьбы философии, вообще духовности, если бы немецкий идеализм, отталкиваясь от Канта, взял бы курс не на Плотина, а на факт естествознания, к тому же не ньютоновского, как это имеет место у Канта, а гётевского естествознания? Характерно, что основной упрек Гёте со стороны кантиански ориентированных критиков: он-де «переносит рассудочные абстракции на объект, приписывая последнему метаморфоз, который свершается, по сути, лишь в нашем понятии» (Sachs J. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. Münch., 1875, S. 169), буквально совпадает с упреком тех же критиков в адрес немецкой идеалистической философии. Г.Файхингер формулирует в этой связи «генеральное заблуждение» Гегеля, который «смешивает пути мышления с путями реально происходящего и превращает субъективные процессы мысли в объективные мировые процессы» (Vaihinger H. Die Philosophie des Als ob. В., 1911, S. 10). Разумеется, с точки зрения гегелевской метафизики эта критика не имела никакого смысла. Вопрос, однако, стоял о смысле самой метафизики. Немецкий идеализм – «высокие башни, около коих обыкновенно бывает много ветра» (Кант), – рушился как карточный домик при первом же таране критики познания. Ибо созерцающее мышление, смогшее в тысячелетиях произвести на свет такое количество глубокомысленной метафизики, не выдерживало и малейшей поверки со стороны естественно-научного мышления. Фихтевская апелляция к Гёте: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство – пробный камень ее», видится в этом смысле как бы неким инстинктивным жестом выруливания между Сциллой кантианства и Харибдой (дезавуированной Кантом) метафизики. Факт то, что Гёте мыслит созерцательно, но факт и то, что мыслит он не как метафизик, а как естествоиспытатель. Метафизическое ens realissimum Шеллинга или Гегеля, облаченное в абстрактные понятия, действует в Гёте как чувственно-сверхчувственное восприятие. Иначе: одна и та же мыслительная потенция, созерцающая в одном случае историю сознания, а в другом случае наблюдающая череп барана, предстает один раз как феноменология духа, другой раз как позвоночная теория черепа. Созерцательную способность суждения можно было сколь угодно остроумными доводами опровергать теоретически или, в крайнем случае, на примере всякого рода парапознавательных практик (Кант versus Сведенборг). Опровергать ее там, где плодами ее оказывались не просто научные открытия, но и открытия целых наук (13 томов трудов по естествознанию насчитывает Большое Веймарское издание Гёте, т.н. Sophienausgabe), было бы просто нелепо.
С другой стороны, однако, именно подчеркнутый антифилософизм Гёте, в защитной среде которого его познание только и могло сохранить свою специфику, сыграл на руку академической философии. Единственным шансом обезвредить опасный прецедент было списать его в счет гениальной личности. Гёте-естествоиспытателю выпадала участь Гёте-поэта: здесь, как и там, все решалось вдохновением, спонтанностью, непредсказуемостью, точечными aper us, при которых не оставалось места никакой методологии, систематике и усвояемости. Воцарившийся со 2-й половины 19 в. научный материализм мог безнаказанно потешаться над лишенной теоретико-познавательного фундамента философией немецкого идеализма. Никто, кроме естествоиспытателя Гёте, пожелай он стать философом и перенеси он на философские проблемы ту созидательную конкретность, с какой он среди мира растений искал свое перворастение, не смог бы искупить гегелевский дух, тщетно силящийся (на последней странице «Феноменологии духа») вспомнить действительность своей Голгофы. Фатальным для этого духа (духа мира) было то, что он все еще взыскал контемпляций и визионерств в мире, уже полностью принадлежащем наблюдаемости. Школьным логикам не оставалось ничего иного, как ставить ему на вид недопустимость заключения от собственной мыслимости к собственной реальности.
Перспективой ближайшего будущего – в темпах нарастания теоретического и практического материализма – оказывалась судьба духовного, стоящего перед выбором: стать либо наукой, либо столоверчением. Решение этой задачи могло единственно зависеть от того, способен ли был философ-практик Гёте стать теоретиком собственного познания (см. Антропософия ).
К.А.Свасьян
Эстетические взгляды Гёте развивались от принятия идей «Бури и натиска» (О немецком зодчестве – Von deutscher Baukunst, 1772) через апологию античного искусства и культа эстетического воспитания к идее подражания природе и к трактовке искусства как произведения человеческого духа, в котором «рассеянные в природе моменты соединены и даже самые объективные из них приобретают высшее значение и достоинство» (Goethe I.W. Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke, 1797. – «Sämtliche Werke», Bd 33. Weimar, 1903, S. 90). В связи с этим Гёте выделяет три вида искусства: простое подражание природе, манеру и стиль. Стиль выражает всеобщее в особенном и принципиально отличается от аллегории, где особенное служит лишь примером всеобщего. Стиль – наиболее совершенное подражание природе, познание сущности вещей, представленное в видимых и ощущаемых образах. Его эстетика оказывается неотделимой от естественно-научных исследований, где постоянно подчеркивается роль целого и всеобщего, выражаемых в элементах и особенном. «Первофеномен», на постижение которого были направлены естественно-научные исследования Гёте, представляет собой явление, воплощающее в себе всеобщее. «Первофеномен» не остается неизменным, он выражен в метаморфозах изначального типа («Метаморфоз растений» – Die Methamorphose der Pflanzen, 1790). Гёте положил начало применению методов типологии в морфологии растений и животных, которые объединяют в себе методы анализа и синтеза, опыта и теории. В живой природе, согласно Гёте, нет ничего, что не находилось бы в связи со всем целым. Особенное, воплощающее в себе всеобщее и целое, он называет «гештальтом», который оказывается предметом морфологии и одновременно ключом ко всем природным знакам, в т.ч. основой эстетики. Ведь ядро природы заключено в человеческом сердце, а способ познания природных явлений – постижение единства и гармонии человека с природой, его души с феноменами природы.
Сочинения:
2. Sämtliche Werke, Bd 1–40. Stuttg. – B., 1902–1907;
3. Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R.Steiner, 5 Bde. Dornach, 1982;
4. Собр. соч., т. 1–13. M. – Л., 1932–1949;
5. Статьи и мысли об искусстве. М., 1936;
6. Гёте и Шиллер. Переписка, т. 1. М. – Л., 1937;
7. Избр. соч. по естествознанию. М., 1957.
Литература:
1. Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917;
2. Лихтенштадт В.О. Гёте. П., 1920;
3. Гейзенберг В. Учения Гёте и Ньютона о цвете и современная физика. – В кн.: Философские проблемы атомной физики. М., 1953;
4. Вильмонт Н. Гёте. М., 1959;
5. Chamberlain H.St. Goethe. Münch., 1912;
6. Simmel G. Goethe. Lpz., 1923;
7. Valery P. Discours en lʼhonneur de Goethe, Oeuvres, v. 1. P., 1957, p. 531–553;
8. Steiner R. Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Stuttg., 1961;
9. Idem. Goethes Weltanschauung. В., 1921;
10. Cassirer Ε. Goethe und die mathematische Physik. – Idem. Idee und Gestalt. Darmstadt, 1971, S. 33–80.
28 августа 1749, Франкфурт на Майне - 22 марта 1832, Веймар) - немецкий поэт и естествоиспытатель. Что «философия Гете»- тема, предваряемая целым рядом оговорок, доказывается не только отсутствием у Гете философии в общепринятом смысле слова, но и его открытой враждебностью ко всему философскому. Академическая философия лишь следует собственным его заявлениям, когда она отказывается аттестовать его как одного из своих: «Для философии в собственном смысле у меня не было органа» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R. Steiner. Domach, 1982, Bd 2, S. 26), или: «Собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии» (Goethes Gesprache. Munch., 1998, Bd 3, 2. Teil, S. 158), или еще: «Она подчас вредила мне, мешая мне двигаться по присущему мне от природы пути» (Goethes Briefe. Munch., 1988, Bd 2, S. 423). Очевидно, однако, что эти признания допускают и более эластичное толкование, особенно в случае человека, который, по собственным словам, ничего не остерегался в своей жизни больше, чем пустых слоз. Если философское мышление обязательно должно быть дискурсивным и обобщающим, то чем оно может быть менее всего, так это гетевским. Гете, «человеку глаз», чужда сама потребность генерализировать конкретно зримое и подчинять его правилам дискурса. В этом смысле правы те, кто считает, что он никогда не идет к философии. Можно было бы, однако, поставить вопрос и иначе, именно: идет ли (пойдет ли) к нему философия? В конце концов важна не столько неприязнь Гете к философии, сколько нужда философии в Гете, и если историки философии обходят почтительным молчанием автора «Учения о цвете», то обойти себя молчанием едва ли позволит им автор «Наукоучения», уполномочивший себя однажды обратиться к Гете от имени самой философии: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство-пробный камень ее» (Fichtes Briefe. Lpz., 1986, S. 112).
Особенность, чтобы не сказать чиковинность, мысли Гете в том, что он в пору наивысшей зрелости и ощутимого конца философии философствует так, как если бы она и вовсе еще не начиналась. Понятно, что такая привилегия могла бы в глазах историков философии принадлежать философам, вроде Фалеса и Ферекида Сирского, но никак не современнику Канта. Другое дело, если взглянуть с точки зрения беспредпосылочности, или допредикативности, познания, с которой новейшую философию заставила считаться феноменология Гуссерля. Гетевское неприятие философии относится тогда не к философии как таковой, а лишь к ее дискурсивно измышленным предпосылкам. «Люди (можно читать: философы.-А. С.) так задавлены бесконечными условиями явлений, что не в состоянии воспринимать единое первичное условие» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 5, S. 448). В свою очередь, предпосылки гетевского философствования, которое он никогда не мыслил себе раздельно с жизнью, производят на академически обученного философа впечатление некоего рода «святой простоты». Таково, напр., неоднократно повторяемое и возведенное до основополагающего принципа требование: «Видеть вещи, как они есть» (Goethe. Italienische Reise. Lpz., 1923, S. 141). Дело вовсе не в том, что этот принцип диаметрально противоречит, скажем, коренной установке кантовской философии. С ним можно было бы посчитаться, если бы он осуществлялся в рамках некой общей и гомогенной философской топики, как, напр., у Гуссерля, где даже в радикализме лозунга: «Назад к самим вещам!» дело шло больше о теоретически востребованном переосмыслении судеб западной философии, чем о «самих вещах». У Гете он вообще ничему не противоречит и утверждает себя силой собственной самодостаточности. Гете-наименее филологичный из людей-есть философ, который мыслит глазами, и значит: не в словах, а в вещах, тогда как большинство людей - и философов! - делают как раз обратное. (§ 754 «Учения о цвете». «И однако сколь трудно не ставить знак на место вещи, всегда иметь сущность живой перед собой и не убивать ее словом».)
Возможность гетевской философии (ее, говоря, по-кантовски, quid juris) коренится, т. о., не просто в мыслимости ее этоса, а в осуществимости последнего. Очевидно, при всей парадоксальности, что словесный пласт философии Гете, или ее дискурс, представлен некой спонтанной цепью отклонений от правил философского поведения, как если бы он знакомился с философией не в работе над ее первоисточниками, а из сплошного негативного опыта конфронтации своих созерцаний с ее понятиями. Характерен в этом отношении его разговор с философски образованным Шиллером, во время которого ему должно было открыться, что он «имеет идеи, сам того не зная, и даже видит их глазами». Возникает неизбежная альтернатива: либо рассматривать «философию Гете» в линии философской традиции (где она окажется, самое большее, эвристически небезынтересной), либо же предварить тему вопросом о специфике гетевского типа познания. В последнем случае решающим оказывается не теоретическое «что можно» и «чего нельзя», априорно обусловливающее всякую философскую рефлексию, а некий самодостаточный опыт, расширяющийся до природы и осознающий себя в идеале как человеческую индивидуальность самой природы, нисколько не смущаясь собственной (философски визированной) «субъективностью». Интересно рассмотреть этот опыт по аналогии с кантовским понятием опыта. Исходный тезис Гете: «Все попытки решить проблему природы являются, по существу, лишь конфликтами мыслительной способности с созерцанием» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 2, S. 200), совпадает, если заменить «конфликты» «синтезами», с кантовским. Но уже со второго шага налицо расхождение. Кант отталкивается от теоретического представления о «нашем» устройстве, Гете от непосредственной данности своего устройства. По Канту, «наш» рассудок устроен так, что созерцания без понятий слепы, а понятия без созерцаний пусты. Гете осознает свое устройство совершенно иначе: «Мое мышление не отделяется от предметов, элементы предметов созерцания входят в него и внутреннейшим образом проникаются им, так что само мое созерцание является мышлением, а мышление созерцанием» (ibid., S. 31). С точки зрения «Критики чистого разума» подобное мышление есть не что иное, как метафизическое мечтательство; § 77 «Критики способности суждения» смягчает вердикт: созерцающее мышление теоретически не содержит в себе противоречия, т. е. можно мыслить его существующим. Аналогия со ста воображаемыми талерами, в которые обошлось Канту опровержение онтологического доказательства, напрашивается сама собой. Эккерман (11. 4. 1827) приводит слова Гете: «Кант меня попросту не замечал».
Реальность, а не просто мыслимость созерцающего мышления у Гете есть, т. о., вопрос не теории, а опыта, причем не понятия опыта, а опыта как делания. Там, где теоретически постулируется слепота созерцаний и пустота понятий, налицо вытеснение реального феномена теорией и, как следствие, «конфликты» обеих половинок познавательного целого. Теория, понятая так, негативна и представляет собой, по Гете, результат «чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который охотно хотел бы избавиться от явлений и поэтому подсовывает на их место образы, понятия, часто даже одни слова» (ibid, Bd 5, S. 376). Настоящая теория тем временем не противостоит вещам, а осознает себя как их «сущность»: «Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория: синева неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение» (ibid.). Все злоключения философии проистекают от того, что опыт отрезается от самих вещей и подменяет вещи словами. «Вместо того чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и постепенно делается столь же непонятной, как последняя» (Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd 36, 4. Abt., S. 162). Что участью философии на этом пути могло быть лишь ее самоупразднение, стало ясно в свете ее дальнейших судеб, сначала в позитивистических диагнозах философии как «болезни языка» (Ф. Маутнер, Л. Витгенштейн), а после уже и в полном ее растворении во всякого рода «играх» и «дискурсах».
В свете изложенного проясняется, наконец, отношение к Гете немецкого идеализма. Судьбой этого идеализма было противостоять натиску материалистически истолкованной физики с чисто метафизических позиций. Понятно, что в споре с ним кантианство могло уже хотя бы оттого рассчитывать на успех, что исходным пунктом его был факт естествознания, а не воздушные замки неоплатонических спекуляций. Эвристически допустим вопрос: как сложились бы дальнейшие судьбы философии, вообще духовности, если бы немецкий идеализм, отталкиваясь от Канта, взял бы курс не на Плотина, а на факт естествознания, к тому же не ньютоновского, как это имеет место у Канта, а гетевского естествознания? Характерно, что основной упрек Гете со стороны кантиански ориентированных критиков: он-де «переносит рассудочные абстракции на объект, приписывая последнему метаморфоз, который свершается, по сути, лишь в нашем понятии» (Sachs J. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. Munch., 1875, S. 169), буквально совпадает с упреком тех же критиков в адрес немецкой идеалистической философии. Г. Файхингер формулирует в этой связи «генеральное заблуждение» Гегеля, который «смешивает пути мышления с путями реально происходящего и превращает субъективные процессы мысли в объективные мировые процессы» (Whinger H. Die Philosophie des Als ob. B., 1911, S. 10). Разумеется, с точки зрения гегелевской метафизики эта критика не имела никакого смысла. Вопрос, однако, стоял о смысле самой метафизики. Немецкий идеализм - «высокие башни, около коих обыкновенно бывает много ветра» (Кант),-рушился как карточный домик при первом же таране критики познания. Ибо созерцающее мышление, смогшее в тысячелетиях произвести на свет такое количество глубокомысленной метафизики, не выдерживало и малейшей поверки со стороны естественно-научного мышления. Фихтевская апелляция к Гете: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство-пробный камень ее», видится в этом смысле как бы неким инстинктивным жестом выруливания между Сциллой кантианства и Харибдой (дезавуированной Кантом) метафизики. Факт то, что Гете мыслит созерцательно, но факт и то, что мыслит он не как метафизик, а как естествоиспытатель. Метафизическое ens realissimum Шеллинга или Гегеля, облаченное в абстрактные понятия, действует в Гете как чувственно-сверхчувственное восприятие. Иначе: одна и та же мыслительная потенция, созерцающая в одном случае историю сознания, а в другом случае наблюдающая череп барана, предстает один раз как феноменология духа, другой раз как позвоночная теория черепа. Созерцательную способность суждения можно было сколь угодно остроумными доводами опровергать теоретически или, в крайнем случае, на примере всякого рода парапознавательных практик (Кант versus Сведенборг). Опровергать ее там, где плодами ее оказывались не просто научные открытия, но и открытия целых наук (13 томов трудов по естествознанию насчитывает Большое Веймарское издание Гете, т. н. Sophienausgabe), было бы просто нелепо.
С другой стороны, однако, именно подчеркнутый антифилософизм Гете, в защитной среде которого его познание только и могло сохранить свою специфику, сыграл на руку академической философии. Единственным шансом обезвредить опасный прецедент было списать его в счет гениальной личности. Гете-естествоиспытателю выпадала участь Гете-поэта: здесь, как и там, все решалось вдохновением, спонтанностью, непредсказуемостью, точечными арег us, при которых не оставалось места никакой методологии, систематике и усвояемости. Воцарившийся со 2-й половины 19 в. научный материализм мог безнаказанно потешаться над лишенной теоретико-познавательного фундамента философией немецкого идеализма. Никто, кроме естествоиспытателя Гете, пожелай он стать философом и перенеси он на философские проблемы ту созидательную конкретность, с какой он среди мира растений искал свое перворастение, не смог бы искупить гегелевский дух, тщетно силящийся (на последней странице «Феноменологии духа») вспомнить действительность своей Голгофы. Фатальным для этого духа (духа мира) было то, что он все еще взыскал контемпляций и визионерств в мире, уже полностью принадлежащем наблюдаемости.
Школьным логикам не оставалось ничего иного, как ставить ему на вид недопустимость заключения от собственной мыслимости к собственной реальности.
Перспективой ближайшего будущего-в темпах нарастания теоретического и практического материализма- оказывалась судьба духовного, стоящего перед выбором: стать либо наукой, либо столоверчением. Решение этой задачи могло единственно зависеть от того, способен ли был философ-практик Гете стать теоретиком собственного познания (см. Антропософия).
К. А. Свасъян
Эстетические взгляды Гете развивались от принятия идей «Бури и натиска» (О немецком зодчестве-Von deutscher Baukunst, 1772) через апологию античного искусства и культа эстетического воспитания к идее подражания природе и к трактовке искусства как произведения человеческого духа, в котором «рассеянные в природе моменты соединены и даже самые объективные из них приобретают высшее значение и достоинство» (Goethe I. W. Uber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke, 1797.-«Samtliche Werke», Bd 33. Weimar, 1903, S. 90). В связи с этим Гете выделяет три вида искусства: простое подражание природе, манеру и стиль. Стиль выражает всеобщее в особенном и принципиально отличается от аллегории, где особенное служит лишь примером всеобщего. Стиль-наиболее совершенное подражание природе, познание сущности вещей, представленное в видимых и ощущаемых образах. Его эстетика оказывается неотделимой от естественно-научных исследований, где постоянно подчеркивается роль целого и всеобщего, выражаемых в элементах и особенном. «Первофеномен», на постижение которого были направлены естественно-научные исследования Гете, представляет собой явление, воплощающее в себе всеобщее. «Первофеномен» не остается неизменным, он выражен в метаморфозах изначального типа («Метаморфоз растений» - Die Methamorphose der Pflanzen, 1790). Гете положил начало применению методов типологии в морфологии растений и животных, которые объединяют в себе методы анализа и синтеза, опыта и теории. В живой природе, согласно Гете, нет ничего, что не находилось бы в связи со всем целым. Особенное, воплощающее в себе всеобщее и целое, он называет «гештальтом», который оказывается предметом морфологии и одновременно ключом ко всем природным знакам, в т. ч. основой эстетики. Ведь ядро природы заключено в человеческом сердце, а способ познания природных явлений-постижение единства и гармонии человека с природой, его души с феноменами природы.
Неполное определение ↓
Читай биографию философа: кратко о жизни, основных идеях, учениях,
философии
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ
ГЁТЕ
(1749-1832)
Немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель. В итоговом философском сочинении - трагедии "Фауст" (1808-1832), насыщенной научной мыслью своего времени, воплотил поиски смысла жизни, находя его в деянии. Гете противопоставлял материалистически-механическому естествознанию Запада творческое учение о природе. Кроме литературных произведений, написал трилогию "Опыт о метаморфозе растений" (1790), "Учение о цвете" (1810).
Восемнадцатилетняя "имперская советница" Катарина-Элизабета Текстор-Гете (будущая великолепная "фрау Айя") мучилась уже третий день, а ребенок не хотел появляться на свет. Наконец он появился, "весь почерневший" и без признаков жизни.
Часы в доме на франкфуртской Хиршграбен били полдень 28 августа 1749 года - "расположение созвездий мне благоприятствовало солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените, Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий - без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли, лишь полная Луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рождению. "Врача не было роды приняли повивальная бабка и бабушка. Долгое время они растирали вином область сердца новорожденного, пока, наконец, обессилевшая мать не услышала радостный крик бабушки "Элизабета, он жив!".Так появился на свет будущий великий поэт и мыслитель.
Род Гете по отцовской линии шел из Тюрингии, по материнской - из Франконии, и далее из Гессена. Среди его предков были князья и крестьяне, ремесленники и художники (в том числе знаменитый живописец и график XVI века Лукас Кранах), дворяне и члены муниципалитетов. Можно смело сказать, что он принадлежал всем слоям немецкого народа. Дед его, сын кузнеца, обучился портняжному ремеслу, а отец, тяготевший к искусствам и рисованию, сумел получить степень доктора права и вообще являл собой тип просвещенного бюргера, собрал богатейшую библиотеку, прекрасную галерею картин и скульптур и мечтал увидеть своего первенца дипломированным юристом.
Семнадцатилетний Вольфганг по настоянию отца и вопреки собственной
воле, влекущей его к изучению древних языков и истории, едет в Лейпциг
изучать право. "В логике меня удивляло, что те мыслительные операции,
которые я запросто производил с детства, мне отныне надлежало разрывать
на части, членить и как бы разрушать, чтобы усвоить правильное
употребление оных. О субстанции, о мире и о Боге я знал, как мне
казалось, не меньше, чем мой учитель, который в своих лекциях далеко не
всегда сводил концы с концами… С юридическими занятиями дело
тоже обстояло не лучше..". Лекции навевали на него скуку.
Характеристики Гёте этого периода: ветреный, рассеянный, непостоянный,
вспыльчивый, причудливый, неуравновешенный - таким он остался в памяти
очевидцев, да и в своей собственной. Необузданное поведение не
замедлило сказаться острейшими ситуациями; в скором времени выяснилось,
что "надменный лорд с петушиными ногами" таит в себе реального
кандидата в самоубийцы. Первый серьезный конфликт с миром выразился в
двойном покушении на собственную жизнь.
У Гёте было слабое здоровье. В 19 лет - произошло кровотечение из легких, в 21 год у него уже была до крайности расшатанная нервная система. Гёте не мог переносить даже малейшего шума, любой звук приводил его в бешенство и исступление. Но усилиями воли, невероятной настойчивостью он преодолел свои слабости, укрепил здоровье.
Позже, чтобы побороть частые головокружения и страх высоты, Гёте заставлял себя подниматься на соборную колокольню. Он посещал больницы, следил за хирургическими операциями и таким образом укреплял свою психику. Ради того чтобы преодолеть свое неприятие шума, Гёте приходил в казармы, заставляя себе подолгу слушать солдатские барабаны. Он пристраивался к проходящей воинской части и принуждал себя пройти под грохот барабанов через весь город. Так Гёте воспитывал в себе выдержку, которая позже поражала его современников.
К этому времени, по-видимому, относится первый гётевский опыт по части "невозможного". Опыт, который развил в нем невероятное, с медицинской точки зрения, умение прожить почти восьмидесятитрехлетнюю и во всех смыслах здоровую жизнь с туберкулезом.
Учебу он продолжил в Страсбурге (1770-1771).
Гёте обуревала жажда знаний, в основе которой лежала программа-максимум: усвоить "все" и, значит (он уже предчувствовал это), стать "всем". Он приступил к изучению медицины, химии, ботаники. О лейпцигской скуке уже не могло быть и речи; занятия носили не обезличенно-вынужденный характер, а определялись на этот раз правилами, которым он и на девятом десятке лет будет следовать столь же неукоснительно, как в юности: "Рассматривать вещи с максимальной сосредоточенностью, вписывать их в память, быть внимательным и не пропускать ни одного дня без какого-либо приобретения.
Далее, предаваться тем наукам, которые дают духу прямое направление и учат его сравнивать вещи, ставить каждую на надлежащее место, определять ценность каждой: я разумею настоящую философию и основательное знание". Диссертация со скоростью моцартовских опер писалась в последние две-три недели страсбургского пребывания. После окончания университета - четырехлетняя адвокатская практика в Вецларе и Франкфурте, где, впрочем, молодой лиценциат зарекомендовал себя не лучшим образом: в судебных актах сохранились жалобы на некорректность выражений доктора Гете.
В сентябре 1770 года он познакомился с Гердером. Гердер, который был старше Гёте на пять лет, уже к тому времени стал знаменитостью. Нужно представить себе степень потрясения юного студиозуса, столкнувшегося с этим "явлением богов" (так он назвал Гердера). Отныне и навсегда ум, сердце и воля подчинялись следующим канонам: 1) подлинный индивидуализм возможен только через универсализм, 2) видеть - значит всегда видеть целое, 3) познание - это страсть, 4) истина - это продуктивность.
Наконец написан сентиментальный роман "Страдания молодого Вертера". Книга вышла анонимно, в двух томах в Лейпциге, помеченная 1774 годом. "Это создание… я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла". В каком-то смысле "Вертер" оказался западней, и если кому-то суждено было ускользнуть из нее, то в первую очередь самому творцу; западня выглядела повальным психозом упоения гибелью и вереницей реальных Вертеров, добровольно покидающих жизнь в голубых сюртуках и желтых жилетах и с "Вертером" в карманах. Вот некоторые из характеристик Гёте этого периода, принадлежащие его друзьям и знакомым: "Гете - гений с головы до пят… Нужно лишь побыть с ним час, чтобы признать в высшей степени смехотворным требовать от него думать и поступать иначе, чем он думает и поступает в действительности" (Фридрих Якоби). "Он мог бы быть королем. Он обладает не только мудростью и простосердечностью, но и силой" (Лафатер).
Гёте вошел в историю не только как гениальный поэт и мыслитель. Он слыл большим почитателем женщин, у него было множество любовниц. И только одна из них удостоилась брачных уз. В 1788 году он познакомился с двадцатитрехлетней цветочницей. Она читала с трудом, говорила с большим тюрингским акцентом. Гигант духа и необразованная девушка - можно ли себе представить двух более непохожих людей? Тем не менее в течение семнадцати лет она оставалась его любовницей, и только в 1806 году Гете женился на ней. В 1789 году у них родился внебрачный сын Август. Родители узнали о внуке только через пять лет…
7 ноября 1775 года двадцатишестилетний Гете по приглашению герцога Карла Августа прибыл в Веймар. "Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар… Он был тогда еще очень молод… и мы немало сумасбродствовали".
В Гёте он не чаял души и сразу же наделил его всеми полномочиями верховной власти: сперва назначил тайным легационным советником с правом решающего голоса в Тайном совете, а позже и действительным тайным советником. Практически речь шла о неограниченной власти; в ведении "автора Вертера" оказались: внешняя политика, финансы, военное дело, народное образование, строительство дорог и каналов, мельницы и орошение, рудники и каменоломни, богадельни и театр. Недовольство веймарской знати не знало предела и грозило перерасти в бунт, но герцог настоял на своем. Аргумент был прост и административно невероятен: "Использовать гениального человека там, где он не может применить свои необыкновенные дарования, значит употребить их во зло".
Ознакомившись с финансовым положением и обнаружив там крах, он отстранил от дел всех, единолично занялся вопросом и в кратчайший срок навел совершенный порядок (кстати, увеличив ежегодный апанаж двора с 25 тысяч до 50 тысяч талеров). "Величайший дар, за который я благодарен богам, состоит в том, что быстротой и разнообразием мыслей я могу расколоть один-единственный ясный день на миллионы частей и сотворить из него маленькую вечность". Гёте были основаны или впервые "задействованы": библиотеки, собрание картин, собрание эстампов, нумизматический кабинет, так называемая кунсткамера (содержащая антиквариат и курьезы), художественная школа, параллельно с последней Литографический институт в Эйзенахе, музеи и т. д. Содержательная сторона дела прояснится на одном лишь примере: минералогический музей в первые веймарские годы Гёте представлял собою крохотную и жалкую любительскую коллекцию; после его смерти это было уже одно из самых богатых и научно значимых собраний во всей Европе.
И все-таки он задыхался. "Я считал себя мертвым", - скажет он чуть позже, осмысливая уже в Италии последние месяцы веймарского одиннадцатилетия; спасение и на этот раз было инстинктивным.
3 сентября 1786 года в три часа утра Гёте тайком покинул Карлсбад, где он вместе с высшим веймарским обществом отдыхал и лечился. Об отъезде не знал никто, даже герцог; в кармане лежали документы на имя Жана Филиппа Меллера, живописца. Неясна была даже цель побега; путь лежал поначалу в сторону Мюнхена; потом оказалось, что он вел в Италию, ибо попасть любой ценой надо было именно в Италию.
Два года беглец провел в Италии, наслаждаясь солнцем, морем, прекрасным климатом, живостью и непосредственностью итальянцев - и, конечно же, творениями древности и эпохи Возрождения.
А затем возвратился в Веймар. И вновь заботы - о Веймарском театре, веймарской библиотеке, Иенском университете, куда Гёте, ставший его официальным попечителем, приглашал, не скупясь, лучшие умы Германии - историка Людвига Окена, философа Фридриха Шеллинга… Тогда же началась многолетняя и нежная дружба Гёте с Фридрихом Шиллером, началась с приглашения последнего на должность преподавателя истории в этот университет.
Вместе с Шиллером Гёте углубляется в изучение античного искусства, ведомый во многом блестящими штудиями Иоганна Иоахима Винкельмана, тоже бюргерского сына, ставшего "главным арием" и "президентом древностей" Ватикана, видевшего в благородной простоте и спокойном величии античного искусства не только норму прекрасного на все времена, но и результат определенного государственного устройства и политических свобод.
Гёте наверняка поспорил бы и с теми, кто позднее отождествлял его миропонимание с гегелевским - ибо человеческий дух у Гёте стремился не к самоотождествлению с заранее заданным "мировым духом", как у Гегеля, а двигался вечно "вперед и ввысь", к бесконечному, трудноопределимому, символически загадочному, но безусловно облагораживающе-прекрасному, и идея прогресса, чуждая Гегелю, была в высшей степени близка поэту.
Отсюда - широта интересов, ведь Гёте был еще и естествоиспытателем, занимался геологией, минералогией, ботаникой, анатомией, открыл наличие "межчелюстной" кости у человека, создал оригинальное учение о цвете, спорил с "корпускулярной" теорией Исаака Ньютона, интересовался астрономией, астрологией, химией, а также мистикой… И сам гравировал, рисовал, оставил свыше полутора тысяч рисунков; одно время даже колебался - не избрать ли вместо литературного труда путь художника?
Отсюда предпочтение опыта - абстракции. Отсюда - почти такое же, как у Спинозы, обожествление природы. Отсюда - удивительно острое и неизменное чувство сопричастности всему происходящему, что делало Гете "естественным человеком" не в руссоистском "первобытном", а в самом полном и всевременном значении этих слов.
Многие отмечали терпимость Гёте, его способность восхищаться одаренными людьми - почти со всеми своими выдающимися современниками он был дружен или по-доброму знаком. А о тех чувствах, которые он сам умел вызывать в людях, свидетельствует не только пример Шиллера, но и судьба Иоганна Петера Эккермана, явившегося к Гёте начинающим литератором за советом и поддержкой и без колебаний отказавшегося от собственного призвания во имя счастья ежедневного общения с великим поэтом в качестве его секретаря и доверенного собеседника, памятью чему - и памятником самому Эккерману - стали его всемирно известные "Разговоры с Гёте в последние годы его жизни".
Гёте умел по достоинству ценить и тех, кто был по своей сути чужд ему. Так, Наполеона, вспоминая о личном общении, он охарактеризовал как "квинтэссенцию человеческого" (примечательно, что император встретил поэта почти однозначным "евангельским" восклицанием: "Вот человек!"). Да и значение Французской революции, несмотря на критическое отношение к "взрыву", нарушающему ход плавной, "ненасильственной" эволюции, Гёте осознал уже в 1792 году, распознав в ней не просто мятеж разнузданной черни, но начало новой исторической эпохи; незадолго же до смерти признавал и благодетельные последствия революции, которые, по его словам, не сразу были видны.
Для Гёте все в мире было достойно уважения и в конечном счете равновелико: Христос и Будда, Прометей и Магомет, масонство и суфизм; китайская поэзия интересовала его ничуть не меньше, чем, например, английская. Именно Гёте принадлежит идея всемирной литературы как целого, имеющего общие законы развития. Гёте не признавал границ между государствами, устанавливаемых честолюбием и войнами, называя истинной трагедией не "гибель отечества", а разорение крестьянского двора. Он стал не только сыном своего народа и своего века, но и гражданином мира в самом высоком значении этих слов; историческим посредником, миссионером, посланцем из XVIII века (которому он принадлежал в большей мере, чем XIX, хотя и умер 22 марта 1832 года) последующим столетиям.
С какой бы стороны ни подходили мы к гетевскому мировоззрению, какие бы разночтения и кривотолки, интерпретации и точки зрения оно ни провоцировало, базис его навечно определен следующими положениями: "Все великое, произведенное человечеством, всегда возникало из индивидуума".
"Истину познают лишь тогда, когда опытно постигают ее в ее возникновении в индивидууме".
"Истина - ничто сама по себе и для себя. Она развивается в человеке, если он позволяет миру воздействовать на его чувства и дух. Каждый человек, сообразно своей организации, имеет собственную истину, которую только он может понять в ее интимных чертах. Кто достигает всеобще-значимой истины, не понимает себя".
"Истина заложена в целостном личности; она получает свой характер не только из рассудка и разума, но и из образа мыслей. Для характеристики научной личности недостаточно простого перечисления истин, возникших из ее головы. Необходимо знать сущность всего человека, чтобы понять, почему идеи и понятия приняли в этом случае именно эту определенную форму". "Истинное есть всегда индивидуально-истинное значительных людей".
Ни одному из этих положений не отвечала философия, с которой пришлось столкнуться Гете. Он и не считал себя философом. "Для философии в собственном смысле, - признается он, - у меня не было органа". Но отношение его к ней всегда граничило с сильной неприязнью, от которой он никак не мог избавиться при малейшем соприкосновении с отвлеченным мышлением. "Она подчас вредила мне, мешая мне подвигаться по присущему мне от природы пути". Исключения не составила даже немецкая классическая философия в лице трех своих представителей - Фихте, Гегеля и Шеллинга. Все трое были пронизаны мощными импульсами гётевского мировоззрения, вплоть до того, что считали себя так или иначе философскими глашатаями этого мировоззрения. Для Фихте Гёте - "пробный камень" философии как таковой. Гегель прямо благодарит его за новые перспективы философского мышления. Шеллинг считает его своим духовным отцом. Тем не менее дистанция сохраняла силу, и опасливость то и дело давала о себе знать. "Эти господа, - отзывается Гете о фихтеанцах, - постоянно пережевывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего "Я". Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным". Раздражение не обходит и Гегеля: "Я не хочу детально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне приятен". Исключение, казалось бы, составил Шеллинг, прививающий философии моцартовскую легкость и быстроту, но природа и здесь взяла свое: "С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда очень радует. Я бы чаще виделся с ним, если бы не надеялся еще на поэтическое вдохновение, а философия разрушает у меня поэзию".
Когда автор "Вертера" весной 1790 году сдал в печать "Опыт о метаморфозе растений", его издатель Гешен решительно отказался печатать это сочинение. Книга вышла у другого издателя и была встречена с враждебным холодом. Симптоматичным оказалось то, что отпор шел по единому фронту. Поэт должен был оставаться поэтом; даже в 1808 году, при встрече с Гёте, Наполеон приветствовал именно автора "Вертера", той самой "змеиной шкуры", которая давно уже была окончательно сброшена. В письмах Гете, в статьях и заметках, беседах и дневниках эта тема звучит неослабевающе, почти безутешно; впечатление таково, что боль и бессилие что-либо изменить доходят здесь до почти физической муки. "Более полувека я известен на родине и за границей как поэт, во всяком случае меня признают за такового; но что я с большим вниманием и старательностью изучал природу в ее общих физических и органических явлениях… это не так общеизвестно, и еще менее внимательно обдумывалось… Когда потом мой "Опыт", напечатанный сорок лет назад на немецком языке… теперь, особенно в Швейцарии и Франции, стал более известным, то не могли достаточно надивиться, как это поэт… сумел на мгновение свернуть со своего пути и мимоходом сделать такое значительное открытие".
"Я не похваляюсь тем, что я сделал как поэт, - часто говаривал Гёте, - превосходнейшие поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и будут жить после. Но то, что в наш век в многотрудной науке, занимающейся проблемами цвета, мне одному известна истина, это преисполняет меня гордости и сознания превосходства над многими".
Философское развитие Гёте шло от антипатии к школьной философии в лейпцигский период к пробуждению собственного философского мышления в страсбургский период и отсюда - к занятиям натурфилософией в первый веймарский период в полемике с Платоном, неоплатонизмом, Джордано Бруно и прежде всего со Спинозой. После путешествия по Италии у него появляется интерес к учению о цветах и к сравнительной морфологии ("Опыт о метаморфозе растений", 1790).
Он вступает в принципиальную полемику с Шиллером по вопросу об отношении мышления и созерцания к идее, к "прафеноменам", занимается изучением кантовской философии, особенно "Критики практического разума" и "Критики способности суждения", а также романтики и творчества Шеллинга. Со временем у Гёте все яснее вырисовывается собственная "система" древней философии (мудрости), изложенная, в частности, в стихотворениях на темы древности, прежде всего в "Орфических первоглаголах", "Завете", "Одно и все". Когда Гёте говорит о себе: "Для философии в собственном смысле у меня нет органа", он тем самым отвергает логику и теорию познания, но не ту философию, которая "увеличивает наше изначальное чувство, что мы с природой как бы составляем одно целое, сохраняет его и превращает в глубокое спокойное созерцание". Этим отличается также его творческая активность. Каждый человек смотрит на готовый, упорядоченный мир только как на своего рода элемент, из которого он стремится создать особенный, соответствующий ему мир".
Высшим символом мировоззрения Гёте является Бог-природа, в которой вечная жизнь, становление и движение, открывает нам, "как она растворяет твердыню в духе, как она продукты духа превращает в твердыню". Дух и материя, душа и тело, мысль и протяженность, воля и движение - это для Гёте дополняющие друг друга основные свойства. Всего, отсюда также для деятельно-творческого человека следует: "Кто хочет высшего, должен хотеть целого, кто занимается духом, должен заниматься природой, кто говорит о природе, тот должен брать дух в качестве предпосылки или молчаливо предполагать его".
"Человек как действительное существо поставлен в центр действительного мира и наделен такими органами, что он может познать и произвести действительное и наряду с ним - возможное. Он, по-видимому, является органом чувств природы. Не все в одинаковой степени, однако все равномерно познают многое, очень многое. Но лишь в самых высоких, самых великих людях природа сознает саму себя, и она ощущает и мыслит то, что есть и совершается во все времена".
О месте человека во Вселенной Гете говорит: "У нее есть гармоническое Единое. Всякое творение есть лишь тон, оттенок великой гармонии, которую нужно изучать также в целом и великом, в противном случае всякое единичное будет мертвой буквой. Все действия, которые мы замечаем в опыте, какого бы рода они ни были, постоянно связаны, переплетены друг с другом. Мы пытаемся выразить это: случайный, механический, физический, химический, органический, психический, этический, религиозный, гениальный. Это - Вечно-Единое, многообразно раскрывающееся. У природы - она есть все - нет тайны, которой она не открыла бы когда-нибудь внимательному наблюдателю". "Однако каждого можно считать только одним органом, и нужно соединить совокупное ощущение всех этих отдельных органов в одно-единственное восприятие и приписать его Богу".
В центре гётевского понимания природы стоят понятия, прафеномен, тип, метаморфоза и полярность.
Общее существование человека он считает подчиненным пяти великим силам, которые поэтически образно воплощает в "орфические первослова".
1) демон личности, 2) идея энтелехии, 3) тихе (судьба) как совокупность роковых жизненных обстоятельств, 4) эрос как любовь в смысле свободной и радостной решимости, 5) ананке как необходимость, вытекающая из конкретных жизненных обстоятельств, 6) эльпис как надежда на будущую свободу и саморазвитие.
Гёте энергично отстаивал право рассматривать и толковать мир по-своему. Однако из его произведений не вытекает, что он считает это толкование единственно допустимым. Согласно Гадамеру, в трудах Гёте живет "подлинное стремление к метафизике"; на К. Ясперса произвела большое впечатление "великолепная нерешенность"; Ринтелен считал Гёте человеком, который, несмотря на демонию и противоречивость натуры, сохранил "живой дух".
* * *
Вы
читали биографию философа, в которой описана
жизнь, основные
идеи философского учения мыслителя. Эту биографическую статью можно
использовать в качестве доклада (реферата, сочинения или
конспекта)
Если же вас интересуют биографии и идеи других философов, то
внимательно читайте (содержание слева) и вы найдёте жизнеописание
любого знаменитого философа
(мыслителя, мудреца).
В основном же, наш сайт посвящён философу Фридриху Ницше (его
мыслям, идеям, произведениям и жизни) но в философии
всё связано, поэтому, трудно понять одного философа, совсем не
читая
всех остальных...
... В XVIII веке появилось философское и научное
направление - "Просвещение". Гоббс, Локк, Монтескье, Вольтер, Дидро и
другие выдающиеся просветители выступали за общественный договор между
народом и государством ради обеспечения права на безопасность, свободу,
благосостояние и счастье... Представители немецкой классики - Кант,
Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах - впервые осознают, что человек живет
не в мире природы, а в мире культуры. Век XIX - век философов и
революционеров.
Появились мыслители, которые не только объясняли мир, но и желали
изменить его. Например - Маркс. В этом же веке появились Европейские
иррационалисты - Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Бергсон... Шопенгауэр и
Ницше являются основоположниками нигилизма, философии отрицания,
которая имела много последователей и продолжателей. Наконец в XX веке
среди всех течений мировой мысли можно выделить экзистенциализм -
Хайдеггер, Ясперс, Сартр... Исходным пунктом экзистенциализма
является философия Кьеркегора...
Русская философия, по мнению Бердяева, начинается с философских писем
Чаадаева. Первый известный на Западе представитель русской философии
Вл. Соловьев. Религиозный философ Лев Шестов был близок к
экзистенциализму. Наиболее почитаемый на Западе из русских философов -
Николай Бердяев.
Спасибо за чтение!
......................................
Copyright:
Великий немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель. Формирование мировоззрения. Г происходило под влиянием. Гердера,. Руссо и особенно. Спинозы,"Этику"которого. Г называл книгой, наиболее совпадала с его в взглядами. Однако в целом. Г относится к типу самобытных мыслителей-мудрецов. Он всячески отстранялся от академической"школьной"философии ("для философии в собственном смысле, - отмечал он, - у меня н е было органа") и пытался опираться не на знания предыдущих философских систем, а прежде всего на собственный жизненный и творческий опыт дистанцированность. Г относительно профессиональных философов, которые предшествовали ему, вия вилась и в том, что он, в противоположность им, был одним из первых предвестников уже не механистического, а органического мировоззрения, основанного на понимании мира как живого монадной целостности, образованной множеств й таких же монадной разномасштабных форм, органично само-реализуются на всех уровнях и во всех сферах бытия. Разработанное. Г на этих мировоззренческих основах учения о морфологии и метаморфоз подчинения ване поискам и выяснению своеобразия первичных живых форм - прафеноменов, олицетворяющих единство в разнообразных поступательных трансформациях соответствующих живых целостных образований, поскольку последние постают ь последовательный ряд преобразований прафеномена. По. Г, повсеместный метаморфоз, самоосуществления внутренних, органическихфоз, самоздійснення внутрішніх, органічних
потенций происходит через взаимодействие полярностей, динамических и противоположно направленных, но одновременно взаимопроникающих, взаемозумовлюючих, взаимодополняющих проявлений сущего: отталкивания и притяжения, раз соединения и объединения, сущность и явление, целое и часть, особенное и общее , единое и многообразное, дух и материя, человек и природа. Определенный ракурс рассмотрения окружающего мира обусловил и особенности постижения. Г в системе миросозерцания. В отличие от господствующего тогда миропонимания с присущими ему статичностью, универсалистским монизмом, стремлением подогнать все без исключения явления под единый, е ханистично-рассудочное стереотип, возведением опыта только к опыту чувственного, целого - к совокупности частей, с потерей. Эйдетические, сущностного зрения, основополагающий принцип мировоззрения. Г воспринимается я к своеобразный протеизм, стремление к постоянному обновлению ("Я сильно похож на хамелеона"), до самоотречения от собственных субъективных вкусов, предрассудков, амбиций в пользу аутентичного восприятия объе тов"во всей возможной чистоте"Вместе. Г отстаивает самовоспроизведением, самосохранением принципиально открытой для самоотверженных поисков першоначала, першофеноменив окружающего мира творческой"человека, как су совместной коллективной существа суспільної колективної істоти".
"Высший гений, - за. Г, - это тот, кто все впитывает в себя, все способен усвоить, не нанося при этом никакого вреда своему настоящему, основному назначению, потому что называют характером, вернее, только т таким образом в состоянии поднять его и максимально развить свое дарование"Отречение от заскорузлости предстает в. Г как установка на конкретность истины, правдивость, как признание нелинейности, поле-это нтричности окружающей действительности, адекватное отражение которой возможно лишь при органического сочетания монистичности с. Плюралистичность (т.е. по монаде логического подхода), последовательного и сознательного учи ування неразрывности, внутренней связи теории и практики, идеи и опыта, анализа и синтеза, субъекта и объекта. Чтобы достичь подлинного понимания реальности как мир живых, динамичных форм, необ необходимость, за. Г, исходить не из умозрительных предпосылок, а из существующего мира, воспринятого таким, какой он есть, чисто и непосредственно, где"любой новый предмет, хорошо увиденный, открывает в нас новый орган"; отдавать предпочтение созерцанию,"точной чувственной фантазии"в отличие от рассудочного мышления, предпочтение интуиции перед. Дискурсия, логикой, синтеза - перед анализом, практике - перед теорией доводя и, что истинное постигается человеком лишь в отблесках, отражениях, которые пронизывают весь мир природы и морали,. Г использует введен. Лейбницем образ зеркала, прибегает к моментов символического в осмыслении человеком сущего, поскольку, по. Г, именно в символе запечатлевается"откровенная тайна природы","жизненно мгновенное откровение необъятного", именно в нем"идея действующее и недостижима","высказана и не высказана"Настоящего же объединение идеи и опыта, теории и мира феноменов, сущности и явления можно достичь, за. Г, не в рефлексии, где их сочетание является обманчивым, а только на практике, через реальные предметом тно-практические действия, дела ("сначала было дело"). Впрочем, он не идеализирует и практическую деятельность, хорошо понимая ее трагизм, амбивалентную природу, поскольку, чтобы быть созданием нового, эта деятельность п овинна время стоять как источник зла, разрушение основ существующего, установившегося строя. Поэтому, с одной стороны, тот, кто действует, всегда бессовестным, совесть есть только у того, кто смотрит, с другой же, наоборот зло предстает как начало конструктивное, творческое, благоприятное для добрых целей. Круг, той или той степени наполненных философским содержанием, которые интересовали. Г на всех этапах его творческой деятельности, было. ВКР ай широким и разнообразным. Однако с течением времени фокус его интересов определенным образом смещается. В первый веймарский период. Г интересуют прежде натурфилософские проблемы, через призму к ритично переосмысленных идей. Платона и неоплатоников, в частности. Д. Бруно, но особенно -. Б. СПИ-нозы. Несколько же позже это происходит под влиянием взглядов. Ари сто-теля (понятие"типа"и"энтелехии"),. Плотин а (идеи органического и внутренней формы,. Канта (антропологическая обусловленность знания), натурфилософии. Шеллинга и других романтиковорганічного й внутрішньої форми,. Канта (антропологічна зумовленість знання), натурфілософії. Шеллінга та інших романтиків.
В 1790 вышел труд"Метаморфоз растений"с изложенными в ней самобытными идеями его"органического"мировоззрения. Системно представлен мировоззрение. Г несколько позже, в серии работ"Образование и преобраз ние органических существ", подавляющее большинство которых опубликована в сборниках"Вопросы естествознания вообще, особенно морфологи"(1817-1824галі, особливо морфологи" (1817-1824).
У позднего. Г оказываются параллели с. Гегелем, и не только в области философии природы, но и в осмыслении смысложизненных вопросов общества и человека, в частности в идейной родства"Фауста"Г и"феноменом энологии духа"Гегеля. На рубеже XVIII и XIX вв. Г - разработал основные понятия своей эстетической системы, прежде символа и стилередусім символу та стилю.
На завершающем этапе философские идеи мировоззрения. Г все больше определяются именно життевозначущою проблематикой, а сам. Г постепенно, но все рельефнее предстает в виде мудреца, не рассудком п стремится постичь истину, а живет в ней всем своим существом, у которого"мышление не отделяет себя от предметов", поскольку"элементы предметов созерцания входят в мышление и пронизаны мышлением внутрен им образом"Вследствие этого его"созерцание само является мышлением", а мышление - созерцанием. В своих поздних прозаических и стихотворных произведениях, статьях, письмах и афоризмах. Г сосредоточивал внимание прежде всего на пита ннях смерти и индивидуального бессмертия человека, смысла его бытия и т.д.. В частности, он приходит к выводу, что человеческое существование вообще подчинено большим силам, воплощенным метафорически в таких"орфических пе ршословах", как демон личности (т. е. стихийное и одновременно внутренне устойчивое начало, что приводит неповторимость лица). Тихе - совокупность якобы случайных жизненных условий, которые в действительности выстраиваются в судьбоносную последовательность; эрос - любовь как непринужденная избирательное сродство, что приводит взаимное влечение;. Ананке - результанта соревнования условий, свобод, произволом и капризов, что в итоге оказывается служением долга; ельпис - надежда на освобождение и самореализацию. Универсализм, широта кругозора и протеизм мировоззрения. Г вызвали отношение к. Г как к предтече, а то и как к основоположника разнообразный их, иногда и диаметрально противоположных школ и направлений мировой философии - философии жизни (Ницше,. Дильтей,. Шпенглер,. Зиммель), кантианства (Гундольф,. Чемберлен), антропософии (Р. Штейнер),"арийско й"аристократической духовной культуры (Надлер,. Хильдебрандт), демократического гуманизма (Тельман,. Т. Манн,. Бехер) современных мыслителей влечет к. Г"подлинное стремление к метафизике"(Гадамер),"великолепная нер озвьязнисть"(Ясперс),"живой дух"(Ринтелен), постоянная направленность не только к синтезу знаний различных отраслей науки, но и к универсальному синтеза различных сфер человеческой культуры в целом, к единству. Ося. Гненный и действия, понятийного и образного, созерцания и мышления, научного и художественного, теоретического и практичногного й образного, споглядання й мислення, наукового й художнього, теоретичного та практичного.
И.В. Гёте никогда не принадлежал к числу непризнанных гениев, которому воздали должное только более или менее отдаленные потомки. Он стал знаменит еще в очень молодом возрасте. В дальнейшем интерес к его творчеству оставался неизменным. Никогда и ни у кого не возникало сомнений по поводу масштабов личности Гёте или созданного им. Так было при его жизни, так осталось и после смерти. Прошло уже почти два столетия, как Гёте был возведен в тот несколько искусственный и все же всеми принимаемый всерьез ранг «гения всех времен и народов», в котором числятся буквально единицы художников и мыслителей. Конечно же, юбилей, да еще круглый, творца подобного ранга не может остаться незамеченным. Желающие отдать ему должное всегда найдутся. Проблема здесь только в том, чтобы поминающим великого человека было что сказать о нем и его творчестве. Ведь если в промежутке между 1749 и 1832 годом жил человек таких грандиозных масштабов, как Гёте, то его осмысление не должно быть плоским, вялым или невразумительным. Соотнесенность с ним обязывает не просто на Гёте посмотреть, но и себя показать. А иначе слишком очевидным станет, что его юбилей не для тебя, что зряшно и суетно стремишься ты принять участие в празднестве, на которое не всякий допущен.
Похоже, сегодня у нас в России, возможна двоякого рода юбилейная реакция на грандиозное явление Гёте. Во-первых, в известных пределах уместен разговор в ключе «мой Гёте». Тот, для кого Гётевское творчество стало собственным жизненным опытом, кто жил его творениями, вправе говорить о том, что ему открылось в этих творениях. Совсем иного рода реакция на Гёте, предполагающая философское или научное рассмотрение его творчества. Оно может осуществляться как собственный прорыв, открывающий новые горизонты в осмыслении Гёте. Возможно и решение гораздо более скромной задачи, так сказать, задачи-минимум. Она состоит в том, чтобы понять самому и довести до сведения читателей то, как трактовался Гёте в европейской мысли. Все-таки всякая попытка осмыслить великого германского художника и мыслителя должна отдавать себе отчет в наличии длительной и устойчивой традиции Гётеведения. Причем традиции не только литературоведческой, но и философской. Уже достаточно давно Гётеведение не может не считаться с тем, что Гёте - это явление, по поводу которого очень многое решено и предзадано. Решенное и предзаданное наверняка в чем-то неточно или даже ошибочно, в чем-то же оно неотменимо и подлежит разве что уточнению, конкретизации, коррекции. В любом случае игнорировать проговоренное о Гёте в европейской мысли и начинать о нем разговор заново означало бы совершать варварски простодушные вылазки в сторону его творчества. Поэтому кому-то напомнить, а для кого-то открыть, как виделся Гёте европейским мыслителям, в чем он оказался сродственным ее видным представителям, не может быть, особенно в юбилейный год, лишним. Публикуемая в «Начале» статья Д.Ю. Дорофеева, по мнению редакции, достаточно полно и внятно отражает опыт осмысления Гёте в западной интеллектуальной традиции, что и позволяет предложить ее читателю.
Д.Ю.Дорофеев
ПОЭЗИЯ И ПРАВДА МЫСЛИ
Философско-поэтическое мировоззрение Гёте (к 250-летию со дня рождения)
С лучайно ли или сознательно, но воздействие человека на мир определяется уже одним фактом существования человека, а также тем отношением к миру, которое человек собой воплощает. Понимая это, Гёте на протяжении всей своей долгой жизни вырабатывал в себе и собой такой взгляд на мир, такое мировоззрение, которое учитывало бы с максимально возможной полнотой эту изначальную связь и взаимосоотнесенность человека и мира, их равноправное и равнонеобходимое сотрудничество. И философское осмысление проблемы мировоззрения, представленное именами Дильтея, Ясперса и Шелера, как раз и направлено на то, чтобы показать сущностную взаимосвязанность этих значений: человек формирует себя как личность только через определение своего отношения к миру, в котором он укоренен и который ему раскрывается. Но поскольку горизонт раскрытия мира не задан, а находится в постоянном развертывании, то и мировоззрение, определение своего места в мире существует в постоянном развитии, чутко учитывающем все новые и новые обнаруживающиеся явления и смыслы.
Конечно, не всякий четко осознает свое мировоззрение, но всякий его имеет, и если у одного оно находит свое выражение в ясно представленных положениях, то у другого оно проявляется в жизненных поступках, выборах, решениях, определяя собой их единство и целостность. Поэтому в некотором смысле мировоззрение выполняет функцию трансцендентального единства апперцепции, но только не для одного лишь сознания, а для всей жизненной целостности бытия человека. И Гёте, направляя всю мощь разума на развитие своего мировоззрения (в котором для него представало не только и, возможно, не столько собственное Я, сколько приходящий с ним в соприкосновение и открывающийся ему мир, а также то, что определяет как его собственное бытие, так и бытие мира), не делал здесь какой-либо принципиальной разницы между собственно жизнью и мышлением, в результате чего его судьба в истории отмечена редкой органичностью. Их единство замечательно своей взаимодополнительностью: поэт помогает мыслителю, образ раскрывает идею, красота являет собой истину. Но такое единство Гёте находил не только в себе. Вырабатывая свой взгляд на мир, он понимал, что мир не может являться нам сам по себе, как отстраненное от нас и замкнутое в себе данное, в таком своем качестве он - абстракция, не более того. Однако, ускользая от нас, мир полнее, доступнее и непосредственнее всего предстает в природе, чья конкретность не может обмануть, донося через себя и в себе все тайны бытия мира, неся в себе все основы, на которых он держится. И такая связь человека, природы и мира как раз и осуществляется, предстает в том процессе, который называется жизнью, и именно через жизнь все оказывается причастным этой связи. Поскольку же то изначальное единство выражало себя через бурлящую в природе жизнь, то рассмотрение загадок жизни и природы было для Гёте первоочередной задачей в деле формирования собственного мировоззрения, которое он развивал на трех принципиальных для философской антропологии понятиях: опыте, деятельности и переживании, - наиболее существенных для понимания взаимосоотнесенности человека и мира. К их рассмотрению мы и переходим.
Проблема опыта всегда была центральной при познании природы. Однако предстающее в этом понятии соотношение субъекта и объекта, человека и чувственного феномена оценивалось по-разному в европейской философии, что, естественно, влияло и на само понимание опыта. Строго эмпирическая тенденция английской мысли, берущая свое начало от таких деятелей позднего Средневековья, как Гроссетест, Роджер Бэкон и Дуне Скотт, находила свое воплощение в индуктивном методе, форме эксперимента и «позитивном» духе; французское мышление, издавна тяготевшее к элегантности и безапелляционной очевидности афоризма, избрало при подходе к природе четкость и красоту выводов математического анализа; на германский же дух определяющее влияние оказали мистики 14 века - в частности, Май- стер Экхарт, заложивший, по сути, основы немецкого спекулятивного языка.
Идея опыта как посредника между человеком и природой, как особого пространства, в котором они объединяются, встречаются и раскрываются навстречу друг другу, (притом, что не сливаются до не различения), выступая равноправными, равнодостойными и равнонезависимыми полюсами этой встречи, выступает на первый план и у Гёте. Правда, при чтении его естественнонаучных работ не может не возникнуть справедливое впечатление, что в этом диалоге он отдает очевидный приоритет природе перед человеком. Однако здесь нужно понимать, что в ситуации конца 18 -начала 19 веков именно природа нуждалась в реабилитации. Установившееся в Новое время понимание науки как mathesis universalis превратило природу в механическое, бесцветное, пугающее бессмысленностью своей бесконечности, математически исчисляемое однородное начало. И смелость Гёте состояла как раз в том, что он осмелился не только выразить в стихах первичную для всех Художников интуицию живой, разноцветной, осмысленной природы, чья истина укоренена в ее красоте (эту истину, так не похожую на истину математического естествознания, превосходно выразил Тютчев: «Не то, что мните вы, природа// Не слепок, не бездушный лик -//В ней есть душа, в ней есть свобода,// В ней есть любовь, в ней есть Язык»), но и представить ее на языке научно обоснованной концепции (вполне естественно, нужно заметить, что такая реакция, представленная не только Гёте, но и деятелями романтического направления, а также Гаманом и Якоби, заметнее всего осуществила себя именно в Германии, т.к. эта страна не испытала того всплеска, даже ажиотажа вокруг научного мышления, который имел место в других европейских странах в 17 веке.
Сам Гёте не отвергал науку «свысока», а как ученый, питающийся интуициями поэта (ведь они были с ним нераздельны), вступал с наукой в открытый и равноправный спор. А поскольку центральным в науке является понятие эксперимента, то вызывает особый интерес отношение к нему Гёте, представленное, в частности, в небольшой методологической статье 1792 года «Эксперимент как посредник между объектом и субъектом». В этой работе Гёте существенно корректирует бэконовскую концепцию эксперимента. Вообще его отношение к английскому философу было двойственным; вот как он сам оценивает его в письме к своему другу Якоби: Ф. Бэкон «кажется мне Геркулесом, очистившим конюшню от схоластического навоза, чтобы ее заполнить навозом экспериментизма». Впрочем, Гёте соглашается, что эксперимент, как форма воспроизведения и повторения показаний опыта, необходим для научного познания; однако представленный в нем предмет, феномен, нужно рассматривать не исключительно в отношении к воспринимающему его субъекту, но и сам по себе. Естественно, Гёте против наивного доверия к природе: чтобы предмет опыта стал именно феноменом, т.е. самораскрывающимся, самообнаруживающимся явлением, человек должен для этого осуществить некоторую редукцию - и только тогда он сможет прийти к «чистому опыту».
В небольшой заметке 1798 года Гёте даже набрасывает иерархию феноменов. На самой низшей ступени стоит эмпирический феномен, наблюдаемый каждым во всей его случайности и текучести; более высокое место отводится научному феномену, который более или менее удачно выводится из найденного в ИСКУССТВЕННЫХ условиях эксперимента закона; наконец, пределом мечтаний и возможностей человека признается чистый феномен, могущий быть обнаруженным только в постоянной последовательности явлений, учитывающей органическую связь с целым. Основными чертами такого опыта являются для Гёте следующие: созерцание различного как тождественного, вечного - в преходящем, общего - в частном. Такой опыт может быть адекватно воплощен, например, поэзией: изображая частное, она всегда указует на всеобщее, не осознавая этого или осознав позднее. Эксперимент поэтому должен не ограничивать являющуюся в нем природу, а тем более не подчинять ее себе, изолируя ее как часть и разрушая ее целостность и органичность, а наоборот, воплощать эту целостность, ничего не пропуская в ней, выводя одно из другого как ближайшее из ближайшего, и именно искусству такого последовательного вывода экспериментатору нужно учиться у математики.
Итак, что мы здесь видим? С одной стороны, Гёте соглашается с принятием математики как основы исследования природы и с пониманием эксперимента как опыта, поддающегося повторению и проверке, но с другой стороны, он категорически призывает избегать изоляции в эксперименте, т.е. искусственности и определенной условности в формировании опыта, желая добиваться рассмотрения представленной в эксперименте целостности природы самой по себе, в отношении самой себя, что возможно только в чистом опыте. Можно ли совместить эти требования? Ведь если происходит отмежевание от понимания эксперимента как искусственного конструирования опыта ради сохранения целостных связей предстающей в нем природы, то как возможно его повторение - ведь природа, как и история, постоянно находится в движении, и каждый следующий ее шаг иной, чем предыдущий. При ее воспроизводстве теряется самое главное в ней - эффект непосредственного и свободного присутствия ее полноты, то, что Вальтер Беньямин называл «аурой». Но просто текучая природа, предоставленная самой себе в своей случайности и неупорядоченности, еще в Античности признавалась непознаваемой, и именно для возможности ее познания Платон, например, ввел свои идеи, а Аристотель - формы. А что же вводит Гёте? Он вводит свой знаменитый Первофеномен (Urphano- men), некое первичное единство и простейшее начало, из которого развертывается и выводится все многообразие феноменального мира и которое присутствует в самом мире как его основа, воплощаясь, в частности, и в самой природе. Так, разнообразие цветов появляется лишь как дифференциация и рассредоточение единого белого луча; среди растений Гёте говорит о некоем исходном «прарастении» (Urpflanz), а в отношении животных - о «праживотном» (Urtier). Здесь-то как раз и осуществляет себя тот метод выведения ближайшего из ближайшего, истинность и эффективность которого не подвергается Гёте сомнению (он сам признавал, что именно благодаря этому методу ему удалось открыть межчелюстную кость).
Нельзя попутно не заметить связь Гётевского Первофеномена с понимаемым немецкими мистиками началом, стоящим у истоков мира и пронизывающим его собой - будь то Gottheit Экхарта или Ungrund Беме. Также есть основания считать, что Гёте понимал свой Первофе- номен, подобно немецким мистикам, как не-бытие, утверждая похожие отношения бытия и не-бытия. Не углубляясь в детальное подтверждение, приведу лишь несколько строк из стихотворения «Одно и все»: «Провсюду вечность шевелится,//И все к небытию стремится,//Чтоб бытию причастным быть». Не удивительно поэтому, что Гёте говорит о неком «ужасе», охватывающем человека, когда ему удается за подобными прафеноменами прочувствовать Первофеномен, ощутить дыхание и тайну его присутствия (здесь можно вспомнить и понятие Angst Хайдеггера), которое, естественно, никогда полностью невыразимо, представляя собой то ближайшее, что всегда является отдаленнейшим, пронизывая собой все сущее и самого человека.
И хотя на первом этапе своего творчества Гёте считал, что божественное вполне доступно воплощению в чистом опыте, то по прошествии годов он все более склонялся к мысли о невозможности этого, оставляя для человека возможность отдаленной встречи с ним лишь в том, что он называл «символическим случаем» и «типичным явлением», характеризуя его как «идеально-реально-символически-тождественное». Божество, стал считать Гёте в старости, присутствует в природе лишь в виде своего отблеска, в символе. Но, увы, не непосредственно. Впрочем, может быть, и сожалеть об этом не стоит: уже в одном письме 1797 года Гёте пишет, что непосредственная связь идеального и обыденного была бы невыносима, а потому существует ряд явлений, где божественная идея открывается опосредованно. Более того, в фрагменте 1816 года признается, что идея и опыт противостоят друг другу в постоянном конфликте, они не могут естественно встретиться на полпути и соединить их может лишь искусство или деятельная практика. Эти размышления говорят о том, что с годами Гёте все больше и больше придавал значение человеку, определив даже смысл всех своих произведений как «триумф чисто человеческого». Такая позиция позднего Гёте разрушает все, так часто приписываемые ему, обвинения в пантеизме. Очень точно ее проясняет образ Зиммеля: каждый человек занимает лишь небольшое место в кругу с рядом стоящими зеркалами, одним из которых является и он сам; благодаря такому положению он отражает лишь такой объем, который открывается ему лишь с его собственного места, но по крайне мере то, что отражает именно он, отражается вполне, в органичной связи с целым и учитывая его уникальное месторасположение.
И Гёте не раз подчеркивал, что полного познания можно было бы добиться только в том случае, если бы все люди объединились и представали бы как одно целое в своих познавательных способностях и возможностях, что, по понятным причинам, трудно достижимо. Нельзя здесь забывать и о очень своеобразных соотношениях Первофеномена и прафеномена. Приведем одно высказывание Гёте, которое поможет разобраться в этих отношениях, а также в вопросах, отсюда вытекающих: «Природа неизменно права, только человеку присущи ошибки и заблуждения… С помощью рассудка до нее не доберешься, человек должен стать обладателем высшего разума, чтобы коснуться одежд богини, которая является ему в прафеноменах физических и нравственных, таится за ними и их создает. Но божество дает знать о себе лишь в живом, в том, что находится в становлении и постоянно изменяется, а не в сложившемся и застывшем. Посему и разум в своем стремлении к божественному имеет дело лишь с живым, становящимся, рассудок же извлекает пользу для себя из сложившегося и застывшего», и еще через пару страниц, говоря о прафеноменах: «высшее, чего может достигнуть человек, - изумление. Ежели прафеномен повергнул его в изумление, он должен быть доволен, ничего более высокого увидеть ему не дано, а искать дальнейшего не имеет смысла - это граница». Итак, здесь ясно выражена мысль о том, что, несмотря на отличие Первофеномена от прафеномена, первый существует и предстает только в этих прафеноменах природы, т.е. здесь нужно их отличать, но не разделять. Причем способ явления, раскрытия Первофеномена в прафеноменах возможен только в динамично развивающейся и изменяющейся природе, познание которой в таком ее качестве доступно только разуму, а не рассудку. Гёте, правда, однозначно не уточняет, является ли сам Первофеномен становящимся и постоянно развивающимся, наподобие elan vital Бергсона, или он, являясь неизменным, лишь обнаруживает себя посредством изменяющейся природы, наподобие того как форма Аристотеля раскрывает себя через соприкосновение с воспринимаемым миром и в нем самом.
Есть все основания считать, что Гёте идет по пути Аристотеля. Напомню, что, по учению древнегреческого философа, душа хранит в себе формы всех вещей, но хранит только в состоянии «возможности»; чтобы она перешла из состояния возможности в состояние действительности, необходимо воздействие на нее феномена чувственного мира, который пробуждает и актуализирует ее, а также в некотором смысле объединяется с ней. Для Гёте, тщательно изучавшего Аристотеля в 80-х годах XVIII века, эта идея «встречи» крайне важна.
Параллельно вспомним, что у Гёте органы чувств человека признавались самым совершенным физическим аппаратом наблюдения, а тех, кто им не доверяет, он открыто называл дураками и умозрителями, что в этом контексте было для него равнозначно (кстати отметим, что сам Гёте любил ставить свои многочисленные опыты-эксперименты только в естественных условиях и состояниях: при чистом солнечном свете, на незамкнутом открытом пространстве, не доверяя таким искусственным средствам познания, как микроскоп или телескоп). Так вот, когда подобная встреча человека и природы происходит, когда объединяющий их Первофеномен осуществляется в своей действительности, реализуя их скрытую устремленность навстречу друг другу, когда они таким образом соединяются в своей изначальной взаимосоотнесенности, тогда и получается тот опыт, который Гёте называл «чистым опытом», «опытом высшего рода». Но Гёте видел пример такого рода опыта, встречи и взаимосоотнесенности человека и мира, а через него и Первофеномена, не только в перцептивном опыте, но и во внутреннем опыте, где все эти связи осуществлялись благодаря переживанию (Erlebnis), важнейшему понятию философии жизни. Как отмечает Гадамер, впервые это слово было употреблено Гегелем где-то в середине-конце 10-х годов 19 века в одном из частных писем; Гёте же, по мнению немецкого герменевта, его еще не знает, употребляя, правда, лежащее в его основе слово «переживать» (erleben). С этим утверждением можно поспорить: уже в письме Шиллеру от 22 июня 1796 года, рассказывая о трудностях написания восьмой книги «Вильгельма Мейстера», Гёте пишет: «…одно лишь несомненно, что мне сейчас очень помогает моя давняя привычка немедленно пускать в дело все - силы, случайные происшествия, настроения и любые - приятные и неприятные - переживания». Совершенно очевидно, что здесь сущность переживания осознанно понимается как источник творческой продуктивности. Само же переживание не является, о чем свидетельствуют и другие тексты, посвященные этой проблеме, чем-то субъективным, но ценится как раз за то, что в нем, как и в восприятии, как и в практической деятельности, человек может прикоснуться к той всеобъемлющей объективной божественной реальности Первофеномена, которая постоянно окружает и воздействует на нас.
В переживании мир входит в человека, а человек принимает, интегрирует его в себя и отвечает этому проникновению с учетом своего индивидуального внутреннего опыта, с учетом своей судьбы и положения в этом мире, и такое объединение, построенное на строгой взаимосоотнесенности, и позволяет выявить в своей чистоте сущность скрывающейся истины Первофеномена (проблема взаимоотношений скрытости, потаенности бытия с одной стороны, и открытости - с другой, представленная Хайдеггером, также учитывалась
Гёте). Поэтому сам Гёте и говорит, что «есть какая-то неизвестная законообразность в объекте, которая соответствует какой-то неизвестной законообразности в субъекте», выделяя чуть дальше два дара Бога человеку, в которых эта связь законообразностей субъекта и объекта воплощается - деятельный поступок и переживание, понимаемое как «вмешательство жизненно-подвижной монады в окружающий ее внешний мир, благодаря чему она только и воспринимает саму себя как нечто внутренне безграничное, извне ограниченное». Но здесь, повторюсь, нужно учитывать и то, что как в отношении переживания, внутреннего опыта, так и в отношении восприятия, «эмпирического» опыта, такой целостной органичности и взаимосоотнесенности человека и мира, такого, пользуясь важным для Гёте понятием «избирательного сродства», нужно еще уметь достичь, пройдя определенные процедуры редукции, очищения от всего наносного, случайного, частного и затемняющего сущность. Только в таком состоянии переживание может быть подлинно продуктивным и по настоящему творческим, только тогда оно становится действительно тем арегси, которое так ценил Гёте.
У Гёте вообще было удивительное чутье к творчески продуктивному переживанию, к переживанию, когда оно предстает именно как залог истины, а не поток субъективных и хаотичных чувствований; он знал, когда переживание настолько оформленно и совершенно, что позволяет творить, в самом глубоком смысле этого слова (поэтому он вообще умел ждать - известно, например, что замысел небольшого рассказа, впоследствии озаглавленного «Новелла», Гёте держал в себе около 30 лет, прежде чем осуществить его). Переживание - это ведь такая же встреча с миром, как и восприятие, ее нельзя подстроить или заменить, ведь в ней не только мир входит в человека, но и человек благодаря этому находит себя и свое место в этом мире.
В этом центральном для Гёте положении о встрече человека и мира в «опыте высшего рода» крайне важно, что они не растворяются друг в друге и поглощающем их единстве; они две самостоятельные сущности, конгениальные друг другу, существующие только в своей взаимосвязанности и взаимосоотнесенности, взаимонаправленные по отношению друг к другу, позволяющие выявлять при достижении такого единства Первофеномен, но при этом имеющие и нечто, доступное только им, субстанциально делающее их автономными и независимыми, хотя, повторяю, и связанными с Первофеноменом (Гёте сам ликвидирует угрозу понимания его учения как пантеизма: в «Философском этюде» он пишет, что хотя все ограниченные существа и заключаются в бесконечном, но они не составляют его частей - они лишь причастны, каждый в своей степени, этому бесконечному). «Все, что есть в субъекте, - писал по этому поводу Гёте, - есть и в объекте, и еще кое-что. Все, что есть в объекте, есть и в субъекте, и еще кое-что» (выделено мной - Д.Д.). Именно это «кое-что» позволяет, в частности в сфере искусств, особенно музыки, творить Художникам на основе чистой антиципации, не пользуясь взаимодействием с опытом - как внутренним, так и внешним. Самым ярким примером является здесь для Гёте юный Моцарт. В остальных же сферах искусства такое взаимодействие намного более необходимо, но и здесь антиципации играют существенную роль. Гёте считает, что антиципации простираются лишь на объекты, уже изначально родственные таланту и касаются они, что достаточно важно, лишь внутреннего, но не внешнего мира. О себе же Гёте говорил, что если бы не носил уже в себе весь этот мир, то сколько бы ни усердствовал жизненный опыт, он остался бы слепым и не открыл бы его для себя. Здесь нужно подчеркнуть крайне важную деталь, касающуюся взаимодействия антиципации, т.е. человеческого «кое-что», и опыта, т.е. природного или мирового «кое-что» открывающегося феномена. Нужно различать два рода таких взаимодействий. Во-первых, взаимодействия, касающиеся человека как такового. Такое взаимодействие раскрывается полнее всего в «Учении о цвете», произведении, которое признавалось Гёте самым важным из всего им созданного. Вспомним, что Гёте, даже называвший себя «сыном света», был в полном смысле der Angenmensch, «человек, воспринимающий мир посредством зрения», абсолютным приверженцем scientia intuitia, знания через созерцание (почему, кстати, Ортега-и-Гас-сет назвал Гётевское видение «мышлением глазами»). Он признавался в письме к Шиллеру: «В содействии других чувств я нуждаюсь лишь изредка, и всякое рассуждение здесь превращается в своего рода изображение». На такой подход глубокое влияние оказало и серьезное увлечение Гёте живописью, проблемами колорита, цвета и красок - до своего итальянского путешествия 1786 года он даже не оставлял намерения стать настоящим живописцем. Не удивительно поэтому, что и в дальнейшем истина напрямую связывалась у Гёте с красотой и само проявление Первофеномена, в первую очередь посредством света, понималось как загадка красоты и божественное разнообразие красок. В «Учении о цвете» такая концепция отстаивается в борьбе с Ньютоном. Принципиальным здесь является положение, что цвет, имеющийся во внешнем мире, также имеется и в нашем глазе, т.е. что не глаз создает цвет какого-либо воспринимаемого предмета, а оба они имеют одинаковую объективную световую субстанцию, благодаря которой они могут воспринимать друг друга. Именно так: не только мы видим свет, но и свет видит нас. По этому поводу у Гёте как-то возник спор с Шопенгауэром (с матерью которого он был хорошо знаком, к самому ему проявлял симпатию и покровительство, снабжая его рекомендательными письмами, - в частности, к Байрону, - был первым и чуть ли не единственным благосклонным читателем одной из первых работ Шопенгауэра «О четверояком законе достаточного основания» и вообще ценил молодого человека), который написал под впечатлением бесед с Гёте свою собственную работу о цвете, но неудачно намекнул, что, может, предметы существуют лишь постольку, поскольку представляются познающим субъектом. Гёте на это горячо, с загоревшимися глазами ответил: «Свет существует, по-вашему, лишь поскольку вы видите его? Нет! Вас не было бы, если бы свет вас не видел!». В таком подходе явен выход к пониманию, что человек и природа, феномен, не оторваны и разделены друг от друга, но изначально связаны и объединены взаимным тяготением, взаимным притяжением друг к другу. Поэтому для Гёте, идущего в своих размышлениях о природе к достижению такого единства, такого синтеза (в котором только и может быть постигнута истина как отблеск Первофеномена) взаимодействие антиципации и опыта, выявленные в «Учении о свете», в полном смысле философском, есть просто необходимые, неотъемлемые условия существования человека как такового. Но такое взаимодействие может осуществляться и на уровне конкретного, уникального человека. Ведь каждый человек неповторимо индивидуален, и его связь с миром не может не учитывать эту индивидуальность, а напротив, должна ее использовать. И те возможности, способности, смысловые антиципации, которые могут быть реализованы отдельным человеком в своей жизни, - они врождены ему (хотя Гёте и допускает здесь некоторую свободу человека, могущего своими усилиями многое изменить в себе, но опять-таки, в принципе, эти изменения могут происходить только в уже предопределенных границах - здесь опять всплывает сравнение с Аристотелем, который в «Никомаховой Этике» высказывал схожие мысли) как отдельной автономной личности, входящей в горизонт бытия, занимая свое, и только свое, место в космосе. Гёте часто повторял: «надо чем-то уже быть, чтобы что-то сделать». Истину нельзя заставить явить себя человеку благодаря какому бы то ни было воспитанию, образованию или желанию: она сама находит того, кому достойна открыться, и связь эта не зависит как от мира, так и от самого человека. Гёте по этому поводу высказался так: «Беда в том, что мышление никогда не поможет мышлению; надо быть от природы правильным, и тогда счастливые мысли всегда оказываются перед нами, как свободные дети Бога, и взывают к нам: мы здесь». В таком понимании сильно проявляется протестантская основа мировоззрения Гёте, важность и значимость которой прекрасно осознавалась им самим, - например, в следующих строчках стихотворения 1817 года: «Не для того ли наградил// Меня Господь талантом,// Чтоб в песнях и в науке был// Я вечным протестантом». Лютер учит, как известно, тому, что никто не может знать о себе, спасется ли он или будет гореть в аду, т.к. никакие критерии и основания, будь то благостная жизнь, выполнение всех заповедей, чистота сердца и т.д., не применимы и бесполезны для определения своей судьбы - по сути дела, человек сам остается для себя вечной загадкой, но эта загадка за него уже решена, все определяется волей и милостью Божьей, а она - непредсказуема. Каждый живет так, как живет, как может жить, как ему в конечном счете предназначено жить, скромно и послушно осуществляя свое назначение, свой жизненный путь и не зная при этом ни куда он ведет, ни что он значит. Это и есть судьба, та жизненная интенция, которая начинает себя развертывать в строго определенном направлении с самого дня рождения (хотелось бы подчеркнуть, что здесь не ущемляется, как может показаться, свобода человека, т.к., и это известно было еще древним грекам, незнание своей судьбы оставляет свободу выбора. Более того - вся соль как раз и заключается в том, что уже будучи конкретным человеком каждый поступает строго в соответствии с неповторимостью своей личности; таким образом, известная предопределенность есть плата за то, что каждый человек есть отдельная уникальная личность - животные же, например, предопределены уже не своей личностью, а своей природой, а это суть две принципиально разные предопределенности. Другое дело, что подобная самостоятельная субстанциальность человека предстает в протестантизме уже сформировавшейся с первой минуты появления его на свет, т.е. личность является заданностью, и не требует, как к этому призывал Шелер, чтобы сам человек образовывал, собирал ее). Ницше очень точно схватил эту сторону мировоззрения Гёте. «У Гёте особого рода, почти радостный и доверчивый фатализм, не бунтующий, не утомленный, из себя самого стремящийся создать нечто целое, веруя, что только с целым все освобождается и является благим и оправданным». Такое доверие, основанное на знании о границах человеческого понимания, позволяет Гёте считать, что нелепо и даже ненаучно задаваться вопросом о причине и цели, вопросом «почему», а стоит только вопрошать, отталкиваясь от опыта, «как»: неправильно говорить, что у быка есть рога, чтобы защищаться, но корректно будет утверждение, что бык защищается рогами, потому что они у него есть. В отношении человека это означает, что не нужно, неумно задаваться вопросами и сомнениями о своей собственной значимости, цели и смысле своей жизни - нужно просто осуществлять ту жизнь, те возможности жизни, которые даны тебе и которые должны найти свое осуществление, подтверждение и оправдание, свою актуализацию и исполнение в соответствующем только твоему положению в мире жизненном опыте. И свой жизненный императив Гёте высказывает в одном письме так: «мы не можем делать ничего иного, как то, что мы делаем, а успех даруется небесами».
И тут мы вплотную подходим к вопросу о том, как Гёте относился к этой жизненной энергии, свершенности человека, которая каждому по-своему помогает осуществить себя. Гёте здесь снова напрямую обращается к Аристотелю, а именно к его центральному понятию энтелехии. Жизнь исполняет себя только посредством principium movens, движущего начала, предстающего в актах плодотворности, продуктивности и деятельности. Эта начало есть основа жизни, основа бытия, и чем полнее человек реализует это свое деятельное начало, тем полнее он приобщится к мировой сущностной основе, тем полней он оправдает свое бытие, тем полней он исполнит себя и свое предназначение в жизни. Значение подобной энтелехии значительно повышается, когда становится ясно, что она берет свой исток, свои силы в той единой всеобъемлющей, пронизывающей собой все сущее энтелехии Первофеномена, частью которой является каждая конкретная энтелехия. Собственно, энтелехия Первофеномена - это его жизнь, и человек приобщается к ней настолько, насколько активно использует деятельную энергию своей энтелехии. Таким образом, уже фактом своей жизни, своей деятельности человек воплощает свою связь с вечной и постоянной энтелехией Первофеномена. Гёте так и говорит, что «любая энтелехия - частица вечности и не устаревает за те краткие годы, которые она связана с земной плотью».
Таким образом, деятельность, как нерв жизни, есть гарант бессмертия человека, а также залог его спасения: эта тема гениально раскрывается в «Фаусте», где в одном месте так и сказано «Спасен высокий дух от зла//Произволеньем божьим://«Чья жизнь в стремлении про- шла,//Того спасти мы можем». В стихотворении же «Завет» Гёте начинает петь осанну деятельному бытию словами: «Кто жил, в ничто не превратится». Но поскольку каждый человек осуществляет заложенную в нем свою энтелехию в разной степени ее полноты и свершенности, что соответственно означает и разную степень приобщенности к вечности Первофеномена, то, следовательно, каждый и вечен, бессмертен не в равной мере, а в соответствии с этой степенью, о чем Гёте говорит совершенно ясно. По всей видимости, правда, здесь идет речь не о личном бессмертии, как в христианстве, а о вечном сохранении себя, в той или иной форме, в качестве составляющей части энтелехии Первофеномена, как это получается у того же Аристотеля.
В целом же, тексты Гёте не позволяют вынести бесспорного и однозначного суждения по поводу взаимоотношений энтелехии человека и энтелехии Первофеномена. Более ясным предстает вопрос о последней. Полнейшая и всеобъемлющая связанность и переплетенность всего сущего в мире такова, что все может развиваться не иначе, как с помощью другого, ближайшего к нему сущего и из него, о чем уже было сказано выше. За это положение Гёте очень держится и в понимании энтелехии. Энтелехия каждого сущего не обособлена в себе, не самозамкнута, а связана с другой, входя определенным, отведенным ей отрезком в единую линию всеобщей взаимообусловленности, в единый мировой энергийный синтез, целостный и неразрушимый, как раз и представляющий энтелехию Первофеномена. Выступает ли в этом своем качестве Первофеномен как Мировая Душа Платона или неподвижный, но двигающий все остальное Ум-Перводвигатель Аристотеля? Скорее первое, т.к. Гёте особое внимание уделял понятию развития (Entwickuug), а сам Первофеномен был у него не только источником жизненной силы, но и сам присутствовал в ее конкретных воплощениях, в том числе - и в ее движении и развитии. Но хотя сам Первофеномен не был трансцендентен миру, а являл себя в нем, тем не менее его энтелехия не равномерно распределяется по миру; но зато там, где ее жизненная сила обнаруживает себя особенно очевидно, ярко, интенсивно и продуктивно, там и встречается то, что Гёте называет «демоническим».
Поскольку это понятие одно из центральных и наиболее запутанных и неясных в мировоззрении Гёте, я позволю себе привести довольно длинную цитату, целостно, как нигде более, объясняющую, что же он понимал под этим понятием. В «Поэзии и правде» говорится, что демоническое - «дающее знать о себе лишь в противоречиях и потому не подходящее ни под одно понятие, и, уж конечно, не вмещающееся ни в одно слово. Это нечто не было божественным, ибо казалось неразумным; не было человеческим, ибо не имело рассудка; не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство. Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на промысел, ибо не было бессвязным. Все, ограничивающее нас, для него было проницаемо: казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми элементами нашего бытия: оно сжимало время и раздвигало пространство. Его словно бы тешило лишь невозможное, возможное оно с презрением от себя отталкивало … Хотя демоническое начало может проявляться как в телесном, так и в бестелесном и даже весьма своеобразно сказывается у животных, но преимущественно все же состоит в некой странной связи с человеком и являет собой силу, если не противоположную нравственному порядку, то перекрещивающуюся с ним…. Однако всего страшнее становится демонизм, когда он возобладает в каком-то одном человеке. Я знавал таких людей, одних близко, за другими мне доводилось наблюдать лишь издалека. Это не всегда выдающиеся люди, ни по уму, ни по талантам, и редко добрые: тем не менее от них исходит необоримая сила, они самодержавно властвуют над всем живым, более того - над стихиями, и кто может сказать, как далеко простирается их власть? Нравственные силы, соединившись, все равно не могут их одолеть, более светлая часть человечества тщетно пытается возбудить против них подозрение, как против обманутых или обманщиков, массы они влекут к себе. Редко, вернее никогда не находят они себе подобных среди современников, они непобедимы, разве что на них ополчится сама вселенная, с которой они вступили в борьбу» . Среди таких людей Гёте называл прежде всего Наполеона, которого он даже считал «квинтэссенцией человечества», Фридриха Великого и Петра Великого.
О творческой деятельности, идущей от энтелехии Первофеномена и воплощающейся в энтелехии гения, как бессознательного процесса, Гёте совершенно четко говорит в одном из писем Шиллеру. Но в том же письме, впрочем, Гёте напрямую ставит в зависимость развитие индивидуального гения от степени гениальности эпохи, в которой он живет, что позволяет здесь видеть предчувствие историзма 19 века, но противоречит романтикам, у которых автономность гения была абсолютной и самодостаточной.
Гёте мог так подробно и глубоко рассуждать о демоническом, потому что и люди, знавшие его (например, Гегель), и, естественно, он сам, признавали его причастность этому началу, причем, как в сфере необычайной продуктивности созерцания, так и в сфере продуктивности деятельного поступка. Действительно, кто хотя бы мельком знаком с биографией Гёте, не может не поражаться интенсивности и разносторонности ритма его существования, серьезности, целеустремленности и сосредоточенности при отношении к любому, из многочисленно занимавших его, делу. Гёте чувствовал в себе огромный заряд жизненной энергии, к которой он подходил очень ответственно и даже, можно сказать, благочестиво, чувствуя нравственную и космическую обязанность израсходывать ее вполне и с максимальной отдачей.
Жизнь Гёте была уникальным воплощением одновременно и человеческого и трансцендентного, она, по словам Зиммеля, «простиралась в трансцендентное…в каждой ее точке», но происходило это исключительно через осуществление всего человеческого, триумфом которого, как мы помним, определял Гёте смысл всех своих произведений. Это было возможно только через постоянное и интенсивнейшее соприкосновение и взаимодействие с миром, происходящее через перцепцию, деятельность и переживание. Оно в равной мере интегрирует в себя как все возможные воздействия этого феноменального, самоявляющегося мира, так и оказываемое на него влияние со стороны человека.
Здесь открываются новые горизонты и перспективы, невозможные там, где проводится строгое дуалистическое противопоставление на теоретическое и практическое, индукцию и интуицию, анализ и синтез, субъект и объект, трансцендентное и имманентное. Гёте, как мы видели выше, не отрицал этих понятий и плодотворно их использовал, но только не в их автономной замкнутости, а в их открытости и взаимосоотнесенности. Человек и мир достойны друг друга, и их бытие возможно только как «бытие вместе». Так, например, важная для Гёте идея человеческой трансценденции может быть осуществлена только в мире и только в формах этого мира, который в свою очередь не есть какая-то граница, скрывающая ЗА собой что-то, а безграничное воплощение скрывающегося В нем вечного и абсолютного, что поддерживает, не растворяя в себе, и человека и мир. Человек придает миру смысл, мир предоставляет человеку реальности, «материю» этого смысла, возможности, условия и горизонт его раскрытия, и единство их союза фундировано тем, что больше их обоих.
Журнал «Начало» №8, 1999 г.