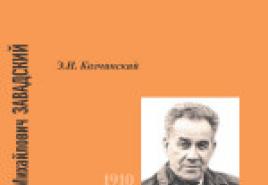Теэтет. Теория познания платона
Введение с.3
Платон «Пир», «Менон», «Теэтет» с.5
Заключение с.17
Список литературы с.18
Терминологический словарь с.19
Введение
Философская мысль человечества зародилась много столетий назад (около 2500 лет) в наиболее развитых очагах цивилизации то¬го времени - в Древней Индии и Китае, Древней Греции и Риме. Немецкий философ XX века Карл Ясперс назвал период около 500 лет до нашей эры «осевым» временем. Именно тогда в основном сформировался человек современного типа. Здесь наступает конец господству мифологической картины мира, и на смену ей приходят рациональные (осмысленные) представления о мироздании. Человек в этот период становится подлинным человеком, существом разум¬ным, одухотворенным. Ясперс утверждал, что в «осевое» время «...человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобож¬дения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания...». (2)
Особую роль в истории сыграла философия Древней Греции. В этой стране имел место расцвет философского мышления своего времени. Греция дала миру таких великих мыслителей, как Сократ, Аристотель, и конечно же, Платон. Во многом благодаря его творчеству определился предмет и структура философии, был сформулирован ее поня¬тийный аппарат, выявлено особое место философии в духовной культуре общества.
После казни Сократа один из его лучших учеников Аристокл, получивший за свои широкие плечи прозвище Платон («широкоплечий»), надолго покинул Афины. Тяжело переживая смерть учителя, Платон (427 - 347 гг. до н. э.) 12 лет странствовал по Средиземноморью, общаясь с крупнейшими учеными и философами. За это время он испытал и почести, и унижения. И даже был продан в рабство. Но после того как его выкупили, он вернулся в Афины и в 386 году до н. э. основал свою школу - Академию, просуществовавшую более 900 лет. Название школа получила от места своего расположения (она была рядом с рощей, посаженной в честь аттического героя Академа), а члены школы стали называться академиками.
Философское наследие Платона обширно. Оно составляет 34 произведения, которые почти целиком сохранились и дошли до нас. 23 из них, бесспорно, принадлежат Платону, авторство же остальных у историков философии вызывает дискуссии. Эти произведения написаны в основном в форме диалога, а главным действующим лицом в них по большей части является Сократ (3).
Платон стал первым греческим философом, создавшим целостную концепцию объективного идеализма, суть которого состоит в том, что мир идей, понятий, мыслей признается им в качестве первичного по отношению к миру вещей. Он полагал, что существует сверхчувственный мир, который представляет собой идеальную целостность и постигается только понимающим умом. Этот мир есть «идеи в себе и для себя», которые находятся «поверх физического космоса». Мир идей вечен (т. е. не порожден) и неизменен (то есть не разложим).
Материальное бытие создается Творцом, Мастером (Демиургом) наподобие того, как человек делает конкретную вещь. Этим Демиургом является разум, творческий ум, который и формирует материальный мир как гармоничную и прекрасную систему. Демиург создает физический мир по идеальным образцам (идеям) и тем самым приводит вещи «из беспорядка в порядок». Идея - это чистая форма Прекрасного в себе, гармоничный и совершенный образ. Материальный мир создается из мира необходимости, хаоса, бесформенного движения, которые противоположны идеям и самому Демиургу.
Космос представлялся Платону в виде шара, в центре которого располагается наша планета, а вокруг нее вращаются другие планеты и звезды, приводимые в движение их душами. Бессмертной, сотворенной богом душой наделен и человек, у которого она соединена со смертным телом. И именно душа является основой разумности человека, дает ему возможность познавать окружающий мир (4, с. 65).
Теория познания Платона построена на том, что человек имеет врожденные идеи, «припоминая» которые, он открывает для себя мир. Прежде чем познать вещь во всех проявлениях, говорит Платон, следует знать смысл вещи, т. е. нужно умом созерцать идеи.
Стимулом к знанию является любовь к прекрасному, которую он дифференцировал как: а) любовь к красивому телу с целью породить в нем другое тело и тем самым удовлетворить стремление к бессмертию, так как «рождение - это вечность и бессмертие»; б) любовь к душе, т. е. жажда справедливости, законности, увлеченность искусством и наукой; и, наконец, в) любовь к званию, т. е. к миру идей, которая «чрезвычайно наглядна и восхитительно сладостна», так как она возвращает человека в лоно Единого (Блага). Эта разновидность любви получила название платонической.
Платон «Пир», «Менон», «Теэтет»
Диалог Платона "Менон" посвящен проблеме познания. На мой взгляд, один из наиболее «сильных» диалогов Платона, намного логичней чем его популярный и известный «Пир».
В самом начале диалога разговор заходит о проблеме добродетели. Спорящие договорились о том, что существует несколько разновидностей добродетели: «добродетель мужчины: легко понять, что его добродетель в том, чтобы справляться с государственными делами, благодетельствуя при этом друзьям, а врагам вредя и остерегаясь, чтобы самому от кого не испытать ущерба. А если хочешь взять добродетель женщины - и тут нетрудно рассудить, что она состоит в том, чтобы хорошо распоряжаться домом, блюдя все, что в нем есть, и оставаясь послушной мужу. Добродетель ребенка - и мальчика и девочки - совсем в другом; в другом и добродетель престарелого человека, хоть свободного, хоть раба. Существует великое множество разных добродетелей, так что ничуть не трудно сказать, что такое добродетель. Для каждого из наших занятий и возрастов, в каждом деле у каждого из нас своя добродетель. И точно так же, Сократ, по-моему, и с пороками» (6).
В этом диалоге эристы устраивают коварную ловушку с целью заблокировать проблему, убеждая, что исследование и познание невозможны. Дейст¬вительно, как можно искать и узнавать то, что еще не найдено, не известно. Ведь если нечто мы находим, то лишь потому, что оно уже известно; и если искомое было бы найдено, то каким образом оно было бы опознано, если не располагать эффективным средством сличения и опознания.
Для разрешения этой апории Платон находит в высшей степени остроумный выход: познание - это "анамнез", т.е. некая форма "вос¬поминания", реактивация того, что уже от века есть в глубинах сокро¬вищницы нашей души.
В диалоге представлены два пути решения задачи - мифиче¬ский и диалектический. Во избежание возможного искажения замысла Платона необходимо рассмотрение и того, и другого.
Первая, мифорелигиозная трактовка проблемы озвучивает орфико-пифагорейские мотивы, согласно которым душа бессмертна и рож¬дается много раз. Душа, стала быть, видела все, и вся реальность для нее доступна, как по эту сторону мира, так и по другую. Если это так, заключает Платон, нет ничего проще, чем увидеть, как душа познает и понимает: она извлекает из самой себя истину, которой владеет как своей сутью. Вот это извлечение из себя и есть "воспоминание", "анамнез".
И тут же во второй части диалога все части развернуты в обратном порядке: то, что было выводом, подвергнуто философской интерпретации как факт, данный для экспериментальной проверки, в то время как то, что пона¬чалу было мифологической предпосылкой, функцией основания, ста¬новится, напротив, умозаключением. Значит, Платон находит важным дополнить мифологическую экспозицию "майевтическим экспериментом". Он, задавая вопросы рабу, не сведущему в геометрии, приводит его сократическим методом к решению одной из теорем Пи¬фагора. Следовательно, аргументирует Платон, поскольку раба не обу¬чали геометрии, и никем решение не было подсказано, полученное им самим знание - его заслуга, не оставляющая сомнения в том, что источник знания - его душа, способная вспомнить. Ясно теперь, что на основе аргументации, далекой от какого бы то ни было мифа, раб, как и любой человек, способен добыть изнутри себя истину, которой прежде не ведал, которой его никто не учил.
Очевидно, условием извлечения истины из души, произрастания ее, должен быть факт наличия истины в душе. Поэтому доктрина анамнеза есть не только неизбежное следствие из орфико-пифагорейской теории метемпсихоза, но, в не меньшей степени, удостоверение в реальных возможностях сократической майевтики.
Диалог Платона «Теэтет» начинается с простого разговора о прибытии в порт Теэтета – героя, воина, к сожалению, тяжело больного. Сократ пересказывает свой диалог с Теэтетом. Беседа Сократа и Теэтета посвящена проблемам геометрии, числам: «Всякий отрезок, который при построении на нем квадрата дает площадь, выраженную равносторонним числом, мы назвали длиной, а всякий отрезок, который дает разностороннее продолговатое число, мы назвали [несоизмеримой с единицей] стороной квадрата, потому что такие отрезки соизмеримы первым не по длине, а лишь по площадям, которые они образуют. То же и для объемных тел».
Далее от математических и физических проблем говорящие отходят и обсуждают проблему первоосновы не только цифр и чисел, но и всего сущего: «ничто само по себе не есть одно, ибо тут не скажешь ни что оно есть, ни каково оно; ведь если ты назовешь это большим, оно может показаться и малым, если назовешь тяжелым - легким и так далее, поскольку ничто одно не существует как что-то или как какое-то, но из порыва, движения и смешения одного с другим возникают все те вещи, про которые мы говорим, что они существуют, хотя и говорим неверно, ибо ничто никогда не есть, но всегда становится. И в этом по очереди сходились все мудрецы, кроме Парменида: и Протагор, и Гераклит, и Эмпедокл, а из поэтов - величайшие в каждом роде поэзии: в комедии - Эпихарм, в трагедии - Гомер, который, упоминая "...отца бессмертных Океана и матерь Тефису", объявляет все порождением потока и движения».
По мнению Сократа сущностью всего, первоосновой мира является движение, некий перводвижитель: «Первоначало, от которого зависит у них все, о чем мы сегодня толковали, таково: все есть движение, и кроме движения нет ничего. Есть два вида движения, количественно беспредельные: свойство одного из них - действие, другого - страда ние. Из соприкосновения их друг с другом и взаимодействия возникают бесчисленные пары: с одной стороны, ощутимое, с другой - ощущение, которое возникает и появляется всегда вместе с ощутимым. Эти ощущения носят у нас имена зрения, слуха, обоняния, чувства холода или тепла. Сюда же относится то, что называется удовольствиями, огорчениями, желаниями, страхами, и прочие ощущения, множество которых имеют названия, а безымянным и вовсе нет числа. Ощутимые же вещи сродни каждому из этих ощущений: всевозможному зрению - всевозможные цвета, слуху - равным же образом звуки и прочим ощущениям - прочее ощутимое, возникающее совместно с ними».
Сократ и Теэтет заводят разговор о морали и проблеме возникновения добра и зла на земле и в обществе: «зло неистребимо, Феодор, ибо непременно всегда должно быть что-то противоположное добру. Среди богов зло не укоренилось, а смертную природу и этот мир посещает оно по необходимости. Потому-то и следует пытаться как можно скорее убежать отсюда туда. Бегство - это посильное уподобление богу, а уподобиться богу - значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым. Однако, добрейший мой, не так-то легко убедить большинство, что вовсе не по тем причинам, по каким оно считает нужным избегать подлости и стремиться к добродетели, следует об одном радеть, а о другом - нет, чтобы казаться не дурным, а добрым человеком. Это, как говорится, бабушкины сказки. Истина же гласит так: бог никоим образом не бывает несправедлив, напротив, он как нельзя более справедлив, и ни у кого из пас нет иного способа уподобиться ему, нежели стать как можно более справедливым. Вот здесь-то и проявляются истинные возможности человека, а также ничтожество его и бессилие».
Диалог Платона "Пир" принадлежит к жанру симпосии (застольная беседа), посвященной проблемам любви и происхождения бога Эрота. Структурно диалог подразделяется на семь частей:
1) речь Федра
2) речь Павсания
3) речь Эриксимаха
4) речь Аристофана
5) речь Агафона
6) речь Сократа
7) речь Алкивиада.
В уста Федра Платон вложил мысли о происхождении Эрота, который, по мнению Платона, является то великим богом, и «которым люди и боги восхищаются по многим причинам, и не в последнюю очередь из-за его происхождения: ведь почетно быть древнейшим богом. А доказательством этого служит отсутствие у него родителей, о которых не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт» (6, с. 176). По сути дела Федр повторяет мифологическую легенду о происхождении Эрота из хаоса.
Федр говорит о величайшем моральном авторитете Эрота и ни с чем не сравнимой жизненной силе бога любви: «Он явился для нас первоисточником величайших благ... если б возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство..., они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыдного и соревнуясь друг с другом», ибо «...Он наиболее способен наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти» (6, с. 177).
Федр развивает идею о высочайшей ценности истинной любви, подкрепляя свои рассуждения рассказом об отношении к ней божеств: «Боги высоко ценят добродетель в любви, больше восхищаются, и дивятся, и благодетельствуют в том случае, когда любимый предан влюбленному, чем когда влюбленный предан предмету своей любви». Своеобразным выводом этой речи служит высказывание о том, что «любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богом, а любимый благодарен своею преданностью любящему» (6, с. 178).
Однако Федру возразил Павсаний, который утверждает, что Эротов несколько и хвалить следует только одного из них. По мнению Павсания, в Эроте заложено не только высшее начало, но и низшее.
Высшее начало Эрота ассоциируется по Платону исключительно с мужской силой и любовью: «Эрот Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, – недаром это любовь к юношам, – а во-вторых, старше и чужда преступной дерзости. Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим умом. Но и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь. Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум, а разум появляется обычно с первым пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, готовы, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь; такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумием, не переметнется от него, посмеявшись над ним, к другому. Надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних, чтобы не уходило много сил неизвестно на что; ведь неизвестно заранее, в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие ребенка – в дурную или хорошую. Конечно, люди достойные сами устанавливают себе такой закон, но надо бы запретить это и поклонникам пошлым, как запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободнорожденных женщин» (6, с. 180).
Таким образом, по мысли Павсания, высший Эрот - это любовь между мужчинами и мужская любовь и оказалась в речи Павсания любовью максимально духовной. Влюбленным же все позволено, но только в сфере души и ума, бескорыстно, ради мудрости и совершенства, а не ради тела.
По мнению Павсания благородна та любовь, которая стремится к любви духовной, а не телесной: «Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести телу, а тело-то он и любил, как он "упорхнет, улетая", посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному» (6, с. 182).
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ ПЛАТОНА
Рассмотренный логический аспект учения об «идеях» вводит нас в учение Платона о познании. В свою очередь теория познания Платона неотделима от его учения о душе.
По Платону, знание возможно не для всякого. «Философия», буквально «любовь к мудрости», невозможна ни для того , кто уже обладает истинным знанием, ни для того, кто совсем ничего не знает. Философия невозможна для того, кто уже владеет истинным знанием, т. е. для богов, так как богам незачем стремиться к знанию: они уже находятся в обладании знанием. Но философия невозможна и для того, кто ровно ничего не знает, - для невежд, так как невежда, довольный собой, не думает, что он нуждается в знании, не понимает всей меры своего невежества. Поэтому, согласно Платону, философ - тот, кто стоит между полным знанием и незнанием, кто стремится от знания, менее совершенного, восходить к знанию, все более и более совершенному. Это срединное положение философа между знанием и незнанием, а также восхождение философа по ступеням совершенства знания Платон обрисовал полумифически в диалоге «Пир» в образе демона Эроса.
Что же есть, по Платону, знание? Вопрос о знании освещается в ряде диалогов, из которых oсo6o важное значение имеют «Теэтет», «Менон», «Пир», «Государство».
При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из мысли о том, что виды знания должны соответствовать видам, или сферам, бытия. В свою очередь, для истинного понимания бытия Платон считал необходимым разрешить противоречие между двумя наметившимися в греческой мысли противоположными концепциями: элейской, утверждающей неизменность, тождественность, неподвижность истинного бытия, и гераклитовской (отчасти отраженной также у Протагора и доведенной до крайности у Кратила), признающей его вечную текучесть, изменчивость и подвижность.
Платоновское исследование гносеологических вопросов сложно. В названных выше диалогах в каждом из них в отдельности проблема познания ставится отнюдь не во всем своем содержании, а так, что предложенные Платоном в них решения восполняют друг друга и только в своем соединении дают более или менее полный ответ на вопрос, что разумел Платон под знанием.
В русской и не только в русской научной литературе, посвященной Платону, чрезвычайную ценность представляют, в частности для освещения гносеологии Платона, исследования проф. А. Ф. Лосева. Этот выдающийся ученый, один из лучших во всем мире знатоков платонизма, дал не только превосходный по точности и обстоятельности философский ц диалектический комментарий «гносеологических» диалогов Платона, но, что еще важнее, показал, каким образом точка зрения, развитая Платоном, например, в «Теэтете», дополняется в анализах «Менона», «Пира», «Государства» и т. д. В следующем ниже изложении теории познания Платона мы используем результаты ценного исследования проф. А. Ф. Лосева [см. 28, т. I, особенно с. 377 - 404, 439 - 447. 461 - 462, 468 - 483. 5Z3 - 586].
При рассмотрении учения Платона о знании необходимо прежде всего иметь в виду, что вопрос о знании отнюдь не ставится у Платона ни как отдельная, изолированная, ни как основная проблема философии. Такое значение гносеологическая проблема, получила только начиная с XVII в. и только в некоторых учениях и направлениях философии. Учение Платона о познании неотделимо от его учения о бытии, от его психологии, антропологии, от его космологии и мифологии, от его диалектики. Рассматривать Платона как гносеолога в немецком или английском вкусе XVIII в. - вроде Юма или Канта - означало бы утрату или отсутствие строгого исторического чутья. Отсутствием этого чутья отличаются работы по интерпретации Платона и платонизма, написанные, например, неокантианцами марбургской школы - Германом Когеном, Паулем Наторпом* и др. В их изображении Платон выглядит как некий античный кантианец , как трансценденталист едва ли не марбургского чекана.
Исторически это не только «модернизация» или «стилизация» Платона под Когена. Это «стилизация», далекая от реального историзма, основанная на слепоте по отношению к исторически своеобразным чертам и характеру античного философствования.
Конечно, у Платона имеется ряд учений, и прежде всего зародыши последующего гносеологического и логического идеализма, которые могут быть истолкованы как предвосхищение не только теории врожденных идей Декарта, но даже трансцендентального априоризма Канта. Но все эти учения в крайнем случае составляют только трансцендентальный момент или аспект философии Платона и могут быть поняты только в связи с другими существенными ее моментами.
И напротив, правомерен и плодотворен подход А. Ф. Лосева, для которого так называемый «трансцендентализм» Платона только один, и притом отнюдь не последний, не завершающий, не высший, - аспект платонизма, но аспект необходимо подчиненный высшим его аспектам и прежде всего - диалектическому.
Анализ знания
Введением в гносеологическое учение Платона может быть диалог «Теэтет». Предмет диалога - именно вопрос о существе знания. Речь идет не о том, какие существуют частные виды знания, а о том, что такое знание само по себе [см. Теэтет, 146 Е].
Диалог не дает положительного ответа на вопрос, но опровергает три несостоятельных, с точки зрения Платона, решения этого вопроса: 1) взгляд, по которому знание есть чувственное восприятие, 2) взгляд, по которому знание - правильное мнение, и 3) взгляд, по которому знание - правильное мнение «со смыслом».
Чтобы отвергнуть отождествление знания с чувственным восприятием, необходимо, по Платону, рассмотреть принципиальную основу этого отождествления. Основа эта - учение о безусловной текучести всего существующего и об его безусловной относительности. Опровергающие доводы Платона в первую очередь направлены против знаменитого тезиса Протагора о человеке как о мере всех вещей: «мерой» может быть только человек, уже владеющий знанием. Далее, против учения о безусловной текучести выдвигается возражение, согласно которому защитники этого учения лишены возможности точно указать, что именно движется: все ускользает от определения в вечном и безусловном потоке движения [см. там же]. Наконец, указывается, что - при безусловной текучести - познание невозможно еще и потому, что посредством одних лишь чувственных восприятий невозможны умозаключения, без которых не достигается никакое знание о сущности. Поэтому ответ на вопрос, что такое знание, необходимо искать в том, что получает душа, когда осуществляет рассмотрение сущего сама по себе [см. Теэтет, 187 А]. Необходимое для познания единство не может быть найдено в области чувственных восприятий, так как в этой области все течет и все лишено твердой определенности.
Таким образом, получается вывод, что чувственному, как текучему, должно предшествовать нечто, уже не текучее и не чувственное, а потому и знание не может быть тождественно чувственному восприятию.
Но знание не может быть и «правильным мнением». Опровержению этого утверждения посвящены в диалоге страницы 187 А - 201 С.
Утверждение это предполагает, будто возможно не только «правильное» (истинное) мнение, но также и "мнение ложное. Но Платон доказывает, что тот, кто имеет ложное мнение, не может пребывать безусловно во лжи: для него по крайней мере нечто истинно (если он знает, что его мнение ложно) или даже все истинно. (если он не знает, что мнит ложно). С другой стороны, из предмета ложного мнения также нельзя вывести никакой лжи.
Наконец, ложное мнение нельзя представить и как такое мнение о существующем, которое мыслит его Как другое существующее. Для такого мышления необходима различающая и сравнивающая деятельность рассудка, а так как сравниваемые предметы различены , то и при этом условии ложь не может возникнуть.
Итак, ложное мнение невозможно. Но тем самым мы лишаемся возможности говорить о соотносительном с ним истинном мнении, и, стало быть, получается, что знание нельзя определять как «правильное мнение ()».
Но лжи вообще не может быть ни в каких ощущениях и ни в каких чувственных образах. Предвосхищая мысль, которую позднее разовьет в своих логических работах Аристотель, Платон доказывает, будто ложь впервые может явиться, только когда возникает вопрос " о том, как следует соединять то, что мы ощущаем и представляем, с тем, что мы знаем. Вообще никакое определение лжи невозможно, если ему не предшествует определение самого знания [см. Теэтет, 199 С - 200 D).
Итак, ложное мнение невозможно. Но знание нельзя определить и просто как истинное мнение независимо от соотносительности мнения истинного с мнением ложным. Платон обосновывает этот тезис, сравнивая сообщение истины с внушением убеждения. Внушение убеждения равносильно внушению мнения. Такова обычная цель речей оратора или судьи. Если при этом судья выскажет правду, то внушаемое им мнение, конечно, будет и истинным. Но это и значит, что знание и правильное мнение - не одно и то же.
Третья теория утверждает, будто знание - не просто «истинное мнение», а «истинное мнение со смыслом». Опровержению этой теории посвящены в..диалоге страницы 201 С - 210 А. Сначала Платон демонстрирует примеры, из которых как будто видно, что одно «истинное мнение» еще не дает знания и что для возникновения знания к истинному мнению должно присоединиться еще нечто - «смысл». Так, отдельные звуки с и о еще не образуют слога со: чтобы возникло знание слога, к простому сочетанию звуков необходимо должно присоединиться предварительное осознание их единства и целостности в «эйдосе» («виде») слога. Однако если мы теперь зададимся вопросом, что же такое это соединение элементов со смыслом, то придется выяснить само понятие смысла, а это исследование приведет к выводу, что знание не может быть определено и как «соединение истинного мнения со смыслом». Как бы ни понимать «смысл» - то ли как выражение в слове («логос»), то ли как перечисление элементов, то ли как указание на отличительный признак, - во всех этих случаях прибавка «смысла» к «правильному мнению» не создает и не может создать знания.
Таким образом, знание не есть ни ощущение, ни правильное мнение, ни соединение правильного мнения со смыслом. Во всех этих случаях знание должно быть отграничено от чувственности и должно рассматриваться не как результат чувственных восприятий, а как предшествующее им условие. «Теэтет» подвел вплотную к мысли, что знание должно быть соединением чувственности и ума и что ум осмысливает элементы чувственного опыта. Предстояло далее показать, каким образом возможно объединение различенных и отграниченных друг от друга деятельностей чувств и ума.
В решении этой задачи новую ступень исследования представляет диалог «Менон» - небольшой, но важный для понимания учения Платона о знании. Непосредственный предмет «Менона» - определение существа добродетели. Какими бы частными признаками ни определялась добродетель, существенно важно, что о добродетели имеется некое общее понятие. Хотя научиться самой добродетели невозможно, зато изучимо и обязательно должно быть изучено знание о добродетели.
Как и в «Теэтете», в «Меноне» сопоставляются «правильное мнение» и «знание». В известном смысле «правильное мнение» вполне правомерно. Оно может управлять совершением любого дела, и управлять им не хуже знания, не с меньшей пользой. Поэтому о человеке, который руководится правильным мнением, можно сказать, что он ничуть не хуже того , кто владеет знанием. Так как добродетель основывается на правильном мнении, то она: 1) не дается человеку от природы и 2) не достигается одним лишь обучением. Так, политики, например Фемистокл. правят городами, основываясь не на знании, а на правильном мнении.
Однако знание все же - и, по Платону, с полным основанием - ценится значительно выше правильного мнения. Эту разность оценки Платон поясняет при помощи аналогии со статуями Дедала: статуи эти, пока не связаны, бегут и убегают, а связанные стоят неподвижно» [Теэтет, 97 D]. Точно то же следует сказать и о правильных мнениях. Пока они остаются постоянными, они хороши и производят доброе. Но все дело в том, что они не могут («не хотят») долго оставаться неизменными. Они «убегают» из человеческой души и потому лишены ценности - до тех пор пока кто-нибудь не свяжет их размышлением о причине. Такое «связывание» Платон называет припоминанием. Заговорив о «припоминании», Платон как будто покидает почву трезвого философского исследования и отдается. во власть своей мифотворческой фантазии. Учение о теории познания оборачивается мифом, в философе возвышается поэт. Выведенный в диалоге Сократ предлагает мальчику, никогда не изучавшему геометрию, решить задачу удвоения данного квадрата и посредством искусно поставленных вопросов приводит мальчика к правильному решению задачи. Из этого факта тотчас извлекается принципиальный философский вывод: «Следовательно, у человека, который не знает того, чего можно не знать, есть верные понятия о том, чего он не знает... И теперь они вдруг порождаются у него как сновидение... Поэтому он будет знать не учась ни у кого, а только отвечая на вопросы, то есть почерпнет знание в самом себе... Но почерпать знание в самом себе не значит ли припоминать? Конечно... Так не очевидно ли, что, не получив их (знания. - В. А.) в настоящей жизни, он имел и узнал их в какое-то другое время? И не то ли это время, когда он не был человеком? Если же в то время, когда он был, но не был человеком, долженствовали находиться в нем истинные мнения, которые, будучи возбуждаемы посредством вопросов, становятся познаниями, то душа не будет ли познавать в продолжение всего времени? Ведь явно, что она существует всегда, хотя и не всегда - человек... А когда истина сущего всегда находится у нас в душе, то не бессмертна ли душа, так что, не зная теперь, то есть не припомнив чего-нибудь, ты должен смело решиться исследовать и припоминать» [Менон, 85 В - 86].
Мифологическая подоснова этого воззрения очевидна. По убеждению Платона, сближающего его с орфиками и пифагорейцами, душа наша бессмертна. До того как она вселилась на Землю и приняла телесную оболочку, душа будто бы созерцала истинно сущее бытие и сохраняла о нем знание даже под спудом земных чувственных впечатлений, удаляющих нас от.созерцания истинного сущего. Это, конечно, миф Платона. Но в оболочке этого мифа выражено и философское содержание. Это мысль о связи всех знаний, отражающей всеобщую связь всех вещей: «Ведь так как в природе все имеет сродство и душа знала все вещи, то ничто не препятствует ей, припомнив только одно, - а такое припоминание люди называют наукой, - отыскивать и прочее, лишь бы человек был мужественен и не утомлялся исследованиями» [Менон, 81 С - DJ.
В «Теэтете» Платон отграничил знание от чувственных впечатлений, а также показал, что рядом со знанием существуют неясные и нерасчлененные акты «мнения», также опирающегося на чувственные впечатления. В «Меноне» знание еще более резко отграничено от чувственности, а «истинное мнение» отделено от «мнения» просто. В этом диалоге показано, кроме того, каким образом в знании впервые происходит объединение истинного мнения с чувственностью - посредством «связывания» всегда текучей чувственности: «Когда же истинные мнения бывают связаны , тогда они сперва становятся знаниями, а потом упрочиваются. От этого-то знание и ценнее правильного мнения. Узами-то и отличается первое от последнего» [Менон, 97 D - 98 А].
В диалоге «Пир» рассматривается, так же как в «Теэтете» и в «Меноне», вопрос о связи знания с чувственностью. «Правильное мнение» толкуется как постижение, занимающее середину между знанием и чувственностью. Знание и чувственность в «Пире» сближаются до слияния, до неразличимости. Но это их сближение дано не столько как результат философского анализа, сколько в образах мифа. Мифологическим воплощением середины представлен демон любви и творчества Эрос. Сын Богатства и Бедности (Пороса и Пении) Эрос совмещает в себе качества отца и матери. Он ни бессмертен, ни смертей, ни богат, ни нищ, стоит посредине между мудростью и невежеством [см. Пир, 203В - 204 А].
Особенность «Пира», делающая этот диалог новой после «Теэтета» и «Менона» ступенью в развитии вопроса о знании, как это прекрасно показал проф. А. Ф. Лосев, в том, что единство знания и чувственности дано в «Пире» не как «застывшее» и «фиксированное», а как единство в становлении: Бессмертное и смертное, вечное и временное, идеальное богатство и реальная скудость, знание и чувственность, красота и безобразие - соединились здесь в одну цельную жизнь, в одно совокупное порождение, в один самостоятельный результат, в одно становящееся тождество [см. 28]. При этом, как подчеркнул А. Ф. Лосев, становление, о котором говорит «Пир», происходит главным образом в сфере знания : Эрос «Пира» - «Эрос» познавательного и созерцательного восхождения; поучение Диотимы - поучение о том, какой путь познания необходим для того, чтобы достичь интуиции прекрасного, а сама эта интуиция в значительной мере характеризуется как интуиция ума, интеллектуальная. Воспитание чувств, которым сопровождается познавательное восхождение, образует, если так можно выразиться, лишь сопутствующий «обертон». Становление, изображенное в «Пире», - становление знания.
Сказанным анализ знания у Платона не ограничивается. Связь и единство знания и чувственности, данные в «Меноне» и в «Пире», Платон представляет с еще более высокой точки зрения - с точки зрения диалектики.
Диалектика знания
Диалектические исследования Платона отнюдь не совпадают с тем, что он сам назвал «диалектикой», - с уже рассмотренным сведением видов к родам и с делением родов на виды. Это лишь формально-логический аспект диалектики Платона. Но у Платона имеется гораздо более широкое и существенное понятие о диалектике, связанное с его учением о знании, о бытии и об отношении между бытием и знанием.
Понятие это раскрывается в ряде диалогов; введением в это понимание может служить конец шестой книги Платонова «Государства». Здесь излагается учение Платона об идее «блага», но речь идет не только о «благе». Мы уже коснулись выше этого учения, когда характеризовали объективный идеализм Платона как телеологический. Пришло время охарактеризовать его и как учение об отношении бытия к знанию. А именно: по Платону, идея «блага» не есть ни бытие, ни знание, а начало, которым порождалось бы и бытие, и знание.
Платон поясняет свою мысль аналогией со зрением. Создатель чувств породил и силу видеть (чувство зрения), и силу быть видимым. Но чтобы увидеть, например, цвета, необходимо, чтобы к этим двум силам, или «родам», присоединился третий род - свет. Но свет исходит от Солнца. Хотя Солнце - не само зрение, оно есть его причина [см. Госуд., 507 D - 608 А и В].
Теперь применим сказанное о зрении к познанию. То самое значение, которое принадлежит благу «в мыслимом месте» по отношению к уму и по отношению к созерцаемому умом, принадлежит и Солнцу «в видимом месте» - по отношению к зрению и зримому. Душа познает, когда она направляется к тому, что озаряется истиной и сущим. Но если она находится в том , что покрыто мраком, она рождается и погибает, руководится мнением и тупеет. Именно это, доставляющее истинность познаваемому и сообщающее силу познающему, следует, по Платону, называть идеей блага и причиной знания и истины, поскольку она постигается умом» Считать свет и зрение солнцеподобным справедливо, но считать их самим Солнцем несправедливо. И точно так же признавать знание и истину благовидными справедливо, но считать которое-либо из них благом несправедливо. Ибо природу блага надлежит ставить и выше знания и выше истины [см. Госуд., VI, 508 Е - 509 А].
Рассматривая «идеи», философ может или рассматривать их реализацию в мире вещей, или, напротив, подниматься в мысли до их начала, пребывающего выше всякого знания. В первом случае душа использует «идеи» в качестве «гипотез», или «предположений»: разделяя род на виды, душа «принуждена искать... на основании предположений, пользуясь разделенными тогда частями как образцами и идя не к началу, а к концу» [там же, 510 В]. Это как бы путь вниз - от «идей» к вещам. Так поступают, «когда ваяют или рисуют: все это - тени и образы.в воде. Пользуясь ими как образами, люди стараются усмотреть те, которые можно видеть не иначе, как мыслью» [там же, 511 А].
Род познаваемого, постигаемый только мыслью, Платон называет «мыслимым». В «мыслимом» имеются две «части». Для отыскания первой из них душа вынуждена основываться на предположениях и не доходит до начала, так как не может подняться выше предположений, но пользуется самими образами или подобиями, запечатлевающимися на земных предметах [см. Госуд., VI, 511 А]. И есть вторая часть мыслимого, второй случай рассмотрения «идей». В этом случае душа идет не к «концу», а, напротив, к «началу»: она сводит все «гипотезы» («предположения») к идее «блага», как к тому, что пребывает выше всякого знания и выше всех предположений. «Узнай же теперь, - говорит Платон, - и другую часть мыслимого... ее касается ум силою диалектики, делая предположения, - не начала, а в существенном смысле предположения, как бы ступени и усилия, пока не дойдет до непредположительного, до начала всего. Коснувшись же его и держась того, что с ним соприкасается, он, таким образом, опять нисходит к концу и уже не трогает ничего чувственного, но имеет дело с идеями через идеи, для идей и оканчивает на идеях» [Госуд., VI, 511].
Это понимание «блага» выводит мысль за пределы одного лишь познания в область диалектики. Платоновское «благо» - и знание, и бытие. По отношению к знанию и к бытию «благо» мыслится как совмещающее в себе противоположные определения. Оно имманентно по отношению к бытию и знанию, так как оно - их источник и основная их сила. В то же время оно запредельно по отношению к бытию и знанию.
Виды знания
Так решается вопрос об отношении знания и бытия к «благу». Но в «Государстве» Платон развивает и детальную классификацию видов знания. Основное деление этой классификации - разделение на знание интеллектуальное и на чувственное. Каждая из этих сфер знания в свою очередь делится на два вида. Интеллектуальное знание делится на «мышление ()» и на «рассудок ()».
Под «мышлением» Платон понимает деятельность одного лишь ума, свободную от примеси чувственности, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. Это та деятельность, которую Аристотель назовет впоследствии «мышлением о мышлении». Находясь в этой сфере, познающий пользуется умом ради него же.
Под «рассудком» Платон понимает вид интеллектуального знания, при , но уже не ради "самого ума и не ради его созерцаний, а для того чтобы с помощью ума понимать или чувственные вещи, или образы. Этот «рассудок» Платона - не интуитивный, а дискурсивный вид знания. В сфере «рассудка» познающий применяет интеллектуальные эйдосы только в качестве «гипотез», или «предположений». Рассудок, по Платону, действует между сферами мнения и ума и есть, собственно, не ум, а способность, отличающаяся от ума и от ощущений - ниже ума и выше ощущений. Это познавательная деятельность людей, который созерцают мыслимое и сущее, но созерцают его рассудком, а не ощущениями; в исследовании они не восходят к началу, остаются в пределах предположений и не постигают их умом, хотя исследования их по началу бывают «умными» (т. е. интеллектуальными) .
Чувственное знание Платон также делит на две области: на «веру» и «подобие». Посредством «веры» мы воспринимаем вещи в качестве существующих и утверждаем их в этом качестве. «Подобие» - вид уж не восприятия, а представления вещей, или, иначе, интеллектуальное действование с чувственными образами вещей. От «мышления» оно отличается тем, что в «подобии» нет действия с чистыми эйдосами. Но «подобие» отличается и от «веры», удостоверяющей существование. «Подобие ()» - некое мыслительное построение, основывающееся на «вере ()».
С этими различиями у Платона тесно связывается различение знания и мнения. Знает тот, кто любит созерцать истину. Так, знает прекрасное тот, кто мыслит о самых прекрасных вещах, кто может созерцать как само прекрасное, так и причастное ему, кто не принимает причастное за самоё прекрасное, а само прекрасное принимает за всего лишь причастное к нему. Мысль такого человека надо назвать «знанием ()».
В отличие от знающего, имеющий мнение () любит прекрасные звуки, образы, но его ум бессилен любить и видеть природу самого прекрасного. Мнение не есть ни незнание, ни знание, оно темнее знания и яснее незнания, находясь между ними обоими [см. Госуд., V 478 С - D]. Так, о тех, которые усматривают многое справедливое, но самого справедливого не видят, правильно будет сказать, что они обо всем мнят, но не знают того, о чем имеют мнение. И напротив: о тех, которые созерцают само неделимое, всегда тождественное и всегда себе равное, справедливо сказать, что они всегда знают все это, но не мнят.
В отличие от мнения, знание есть потенция, некий особый род существующего, характеризующий направленность; знание направляется к своему предмету, и всякая потенция, направляющаяся к одному и тому же и делающая одно и то же, называется той же самой в отличие от всякой, направленной на иное и делающей иное.
В особый вид бытия и соответственно в особый предмет знания Платон выделяет математические предметы и математические отношения. В системе предметов и видов знания математическим предметам принадлежит место между областью «идей» и областью чувственно воспринимаемых вещей, а , или изображений.
«Идеи» постигаются посредством знания, и знание возможно только относительно «идей». Это развитие учения элейцев, которые утверждали, что истинно сущее бытие, и только оно одно постигается разумом;
явления изменяющегося и подвижного мира могут восприниматься лишь чувствами, которые дают нам не достоверное, но в лучшем случае только вероятное, гипотетическое знание.
В отличие от идей, математические предметы и математические отношения постигаются, согласно Платону, посредством размышления или рассуждения рассудка. Это и есть второй вид знания.
Чувственные вещи постигаются посредством мнения. О них невозможно знание, их нельзя постигнуть посредством рассуждения, их можно постигнуть, и то недостоверно, лишь гипотетически.
Размышление, направленное на математические предметы, занимает, по Платону, середину между подлинным знанием и мнением. Почему же математические предметы занимают такое положение? Дело в том, что, по Платону, математические объекты родственны одновременно и вещам, и идеям. Они, как идеи, неизменны, не зависят в своей сущности от отдельных экземпляров, представляющих их в чувственном мире. Например, сущность треугольника не зависит от того, какой частный конкретный треугольник мы станем рассматривать, эта сущность остается для любого треугольника одной и той же. Но вместе с тем, поясняет Платон, математики вынуждены прибегать для постижения своих предметов к помощи фигур, как это делает геометрия, а эти фигуры рисуются посредством воображения. Именно поэтому математическое знание не есть знание, совпадающее с тем, при помощи которого постигаются, идеи. Оно совмещает в себе части истинного знания с некоторыми частями мнения.
Теэтет
«ТЕЭТЕТ»
- диалог Платона так называемого «зрелого» периода, в котором ставится вопрос о сущности знания (episteme). Исследование построено как выдвижение и последовательное опровержение трех тезисов: 1) знание есть ощущение (aisthesis) (151е-186е); 2) знание есть истинное мнение (alethes doxa) (187e-201с); 3) знание есть истинное мнение с объяснением (he meta logou alethes doxa) (201c-210d). Для решения теоретической задачи Платон привлекает ряд образов и примеров, тесно связанных с теоретическим содержанием диалога. Сократический метод сравнивается с повивальным искусством, а рождение знания - с родами души (150Ь-с). Особую роль играет здесь и образ самого Теэтета (его схожесть с Сократом позволяет интерпретировать знание как процесс всматривания в себя).
1. Вначале Теэтет определяет знание как aisthesis, что весьма неожиданно для математика. Речь идет не столько об ощущении или даже чувственном восприятии, а, скорее, о непосредственном восприятии вообще. Восприятие означает здесь очевидность того, что непосредственно являет себя (aisthesis поначалу отождествляется с phantasia - 152с). Те или иные феномены («белое», «теплое», «сладкое») возникают в результате встречи, соприкосновения разных типов движения (kinesis), «посредине» (metaxu) между действием и претерпеванием (poiein-paschein) (153e-156е). Познание, таким образом, толкуется как физический процесс. В качестве представителей такого понимания Платон называет Гераклита, Эмпедокла и, что звучит почти как ирония, Гомера и Эпихарма (152е). Но главным адвокатом определения знания как aisthesis выступает здесь Протагор с его тезисом «человек - мера всех вещей». То, что Протагор изображен сторонником «гераклитизма», с исторической точки зрения - весьма сомнительно (как сомнительно и само толкование homo-mensura-тезиса в диалоге). Но Платон меньше всего заинтересован в «адекватном» толковании учения Протагора. Его главная цель - показать абсурдность позиции, согласно которой «ничто само по себе не есть одно» (152d), «ничто не существует само по себе как одно» (meden auto kath" autho hen on tithentes) (153e). Платон, напротив, утверждает, что познание невозможно без некоторых всеобщностей (koina), в которых синтезировались бы данные различных чувств. В таком предмете, как, напр., сахар, органы наших чувств фиксируют: а) белизну, Ь) сладость, с) определенный запах и т.д. Каждое из названных качеств отличается от каждого др. и само по себе не имеет ничего общего с каждым др. Тогда на основании чего отдельные взаимно-различные качества составляют одну вещь, один предмет, в котором все они образуют некое единство (a+b+с)? Ответ Платона таков: многообразие данностей сводится к единству (mian tina idean) благодаря действиям души (здесь душа - синоним разума, сознания) (184d). Восприятие имеет предикативный характер, и здесь Платон максимально близок к И. Канту. «Душа сама по себе наблюдает общее во всех вещах» (all" aute di" autes he psuche ta koina peri panton episkopein), оперируя универсальными категориями бытия-небытия (ousian - to einai), подобия-неподобия (homoioteta-anomoioteta), тождества-различия (to tauton-to heteron), числа (arithmon) и т.д. (185c-e). Здесь содержится явный намек на учение об идеях (софисту Протагору, делающему человека всеобщей мерой, противопоставляется философ, который стремиться постигать вечное и неизменное, почему и философия - «посильное уподобление Богу» (homoiosis theo kata to dunaton) (176b).
2. Вторую дефиницию (знание - alethes doxa) Сократ проверяет с помощью вопроса о возможности «ложного мнения» (pseudes doxa). Тем самым феномен заблуждения впервые рассматривается как серьезная гносеологическая проблема. Различные варианты объяснения ложного мнения Сократ решительно отбрасывает, но при этом негативный результат каждый раз содержит в себе позитивное зерно. Так, напр., отрицание того, что ложное мнение есть мнение о не-сущем, превращается в тезис, согласно которому не-сущее перетолковывается как «то, что есть иначе». Тогда ложное мнение - это «иномнение» (allodoxia): кто-то мнит одно вместо др. (189с). Т.е. ложное приписывание F некоторому А,
которое в действительности есть G, толкуется как ложное смешение F
и G. Но если «мнить» означает «рассуждать» (когда душа спрашивает и отвечает, утверждает и отрицает о том, что она наблюдает), то невозможно принимать четное за нечетное, быка за лошадь, а стало быть, одно за др. (190а-d). Кажется, что избежать апории можно в том случае, если толковать ложное смешение как частный случай иллюзии, обманчивого восприятия (191b). С помощью модели восковой дощечки вводится теория, согласно которой ложное мнение интерпретируется как неадекватное применение запечатленного в памяти образа (отпечатка) к предмету, воспринимаемому тут и теперь (191с- 193с). Но поскольку предложенная теория усматривает причину ложного мнения в соприкосновении ощущения с мыслью (195b), она исключает возможность заблуждения в самом мышлении, что неверно (196с). Здесь вновь за негативным результатом кроется важная для Платона мысль: в том, что познается, должна обнаруживать себя идея. Мнение соединяет два различных отражения (в душе и в чувственно-воспринимаемом предмете) той же самой идеи. Недаром эта мысль является важным указателем на пути от первого тезиса (поиск оснований знания вовне) ко второму (усмотрение оснований знания в самом разуме - he psyche, hotan aute kath" auten pragmateuetai peri ta onta - 187a). Примечательно, что образ восковой дощечки с отпечатками, символизирующими обретенные знания, стал весьма популярен в философской традиции. Его использовали и рационалисты (напр., для Р. Декарта оттиск идеи Бога в нашем сознании свидетельствует о ее врожденности), и эмпирики (для Дж. Локка образ восковой дощечки иллюстрирует теорию происхождении всех наших знаний из опыта).
Поиск продолжается с помощью др. модели - модели голубятни, позволяющей по-иному интерпретировать тезис о смешении (197d-е). Обрести правильное мнение означает поймать ручного, «правильного», голубя (напр., поймать голубя «двенадцать» - это сложить пятерку и семерку). Бесспорно, здесь снова задействована концепция припоминания и внутреннего порождения знаний: в душе знатока арифметики «присутствуют знания (epistemai) всех чисел» (198b). Но что означает здесь выражение «поймать ложное знание» (199Ь)? напр., вместо двенадцати - одиннадцать? Нужно ли толковать это так, что ошибающийся неправильно складывает числа «5» и «7», т.е. ложно применяет знание? Если ошибается тот, кто обладает знанием, то получается парадокс: знание порождается незнанием (199d), что опять приводит к апории (200а). Проблематичность всего «долгого пути» обнаруживается в свете нового критерия знания - непосредственной очевидности. Так, риторы и судьи не обучают, но внушают мнения. Судья принимает решение лишь на основании истинного мнения, доподлинно не зная о том, что произошло. Ведь «знать о чем-либо можно, только если ты видел это сам» (idonti monon estin eidenai - 201b-с). Платон использует этимологическую близость знания (как восприятия) с непосредственным усмотрением, видением, что, конечно, можно толковать как намек на теорию идей. В 20 в. Б. Рассел будет различать knowledge by description и knowledge by acquaintance.
3. Третье определение, трактующее знание как правильное мнение с объяснением, и занимает меньшую часть диалога, но содержит важное учение о «логосе». Общим фоном для обсуждения дефиниции служит критика тезиса Антисфена, который различал вещи (как нечто познаваемое) и элементы вещей - stoicheia (как нечто непознаваемое, а только воспринимаемое и именуемое) (201е). Согласно такой теории познать предмет а означает перечислить его составные части X, Y, Z. В таком случае всегда проблематичен переход от непознаваемых элементов к познанию составленного из них целого (203а-205е). Пример с отношением элементов (слогов) к слову (как к целому) предвосхищает диалектику одного и многого в «Пармениде» (где подвергается критике наивная теория идей). И уже после разбора тезиса Антисфена исследуется природа самого объяснения (206с). Логос определяется (1) как артикуляции мышления (206d) или как отражение мысли в звучании; далее, как (2) переход от частей к целому (207а-208Ь); и, наконец, как (3) описание вещи с помощью знака или ее отличительного признака (208с-е). Но последнее уже предполагает правильное мнение, что указывает на круг в рассуждении и вновь приводит к апории (209d-е). Апоретическое завершение роднит «Т.» с ранними диалогами, но уровень обсуждения здесь явно иной. В этом уже преимущественно «теоретическом» диалоге Платон вплотную подходит к ключевым проблемам своей философии.
Влияние круга идей, сформулированных в «Т.», ощутимо как в гносеологических построениях философии Нового времени (кроме вышеприведенных примеров с Декартом и Локком, можно указать на Г. В. Ф. Гегеля, чья критика чувственного познания в «Феноменологии духа» была явно инспирирована Платоном), так и в современных исследованиях (напр., теория восприятия, изложенная во фрагменте 153е, в весьма рафинированной форме воспроизводится А.Н. Уайтхедом, а единственная обширная платоновская цитата в «Философских исследованиях» Л. Витгенштейна (§ 46) - это цитата именно из «Т.»),
А.О. Баумейстер
Лит.: Платон.
Собрание сочинений. Т. 2. М., 1993; Васильева Т.В.
Беседа о логосе в платоновском «Теэтете» // Платон и его эпоха. М., 1979; Platon.
Theatet. Griechisch-Deutsch. Stuttgart, 1989; Graeser A.
Theatet // Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Antike. Stuttgart, 2004; Natorp P.
Platos Ideenlehre. Eine Einfiihrung in den Idealismus. Leipzig, 1921.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация» . И.Т. Касавин . 2009 .
Хотя он приходит, по-видимому, лишь к отрицательным результатам.
Сократ беседует с Теэтетом о том, что такое знание. Теэтет начинает с определения знания как ощущения. Мы знаем, что Аристипп по следам Протагора , приходил к тому же заключению. Платон развивает это положение во всех его последствиях. Ощущение есть лишь наше субъективное состояние; вне его мы ничего не можем знать. Все сводится к положению Протагора: «человек есть мера всех вещей », а отсюда непосредственно следует, что сущее есть то, что нам кажется.
Развив его учение, Платон приступает к его опровержению. Ощущения все равно субъективны и в этом смысле все равноправны, хотя всякое животное ощущает по-своему. Если все сводится к ощущению, то все относительно, и мы ничего не можем сказать о вещах – ни истинного, ни ложного. Ложных ощущений нет, они все истинны, раз они восприняты нами: больному мед кажется горьким, теплое – холодным, он ощущает то, что он ощущает. Оставаясь в области ощущений, мы никогда не найдем никакой общей логической меры. Никто не может знать более другого, ибо все равно ощущают. Все ощущения частны, индивидуальны, относительны, ибо все они относятся к ощущающему субъекту. Вне их мы ничего не знаем и совершенно произвольно относим их к отличным от них причинам. Поэтому всякое обобщение или умозаключение, все выходящее за пределы ощущений – не есть знание, есть ложь.
Между тем мы видим на самом деле, что существует истинное обобщение, что есть знание будущего, знание, не ограничивающееся настоящим и постольку необъяснимое из одной чувственности человека. Далее, ощущение есть изменение нашего сознания; таким образом все должно сводиться к непрестанному изменению; нельзя говорить о бытии, о чем-нибудь неизменном, пребывающем; остается лишь одна текучая волна, в которой нет ничего пребывающего, на чем можно было остановиться. Мы приходим к положению Гераклита : ничего нет, все лишь становится, – πάντα ρέι. И это положение в последовательном своем развитии приводит к крайнему скептицизму Кратила. Ничего нельзя утверждать ни о чем, ибо все течет и ничто не пребывает тожественным. Все переходит в своё противоположное – «ничто не есть». Нельзя сказать о вещи, что она существует «так» или «не так», а лишь οὔδ’ όπως – никоим образом.
Переходя к психологической стороне познания, мы и здесь находим, что ощущение не есть конечный источник нашего познания. Понимание и ощущение – два совершенно различных акта. Можно ощущать и не понимать. Мы слышим речь, которую говорят на незнакомом для нас языке, и не понимаем ее. Есть много органов ощущений и одно сознание, которое связывает между собою их разнородные показания. Каким же образом мы познаем объективные, действительные отношения ощущаемых явлений?
Мы говорим, что огонь жжет. Это есть суждение, посредством которого я связываю два восприятия – света и тепла; но самая связь их есть нечто иное, чем ощущение; притом ощущение чисто субъективное, а в данном утверждении мы находим и нечто объективное. Вообще, испытывая различные вещи, мы устанавливаем некоторое общее отношение между различными ощущениями, но это сравнение не может быть отнесено к ощущению.
Что же должно быть помимо ощущения? Чтобы познавать предмет, мы должны понимать его; сами понятия тожества, различия, сходства, несходства, величины, единства, множества нельзя считать ощущениями; а между тем, посредством таких понятий мы судим, сравниваем, связываем различные ощущения в восприятии одного предмета, мы понимаем его как нечто объективное, независимое от наших личных ощущений. Душа не имеет никакого особого телесного органа для восприятия этих общих понятий и отношений; но так как никакое познание, никакое истинное восприятие действительных вещей немыслимо без таких понятий, то Платон признает в человеческой душе способность непосредственно усматривать общие отношения: αὐτή δὶ αὑτῆς η ψυχή τά κοινά μοι αινεται περὶ πάντων ἐπισκοπειν (Теэтет, 185, Ε).
Таким образом Платон опровергает сенсуализм Протагора и утверждает, что есть общие отношения между вещами, которые не ощущаются, а понимаются нами. Ибо уже из рассмотрения теории Протагора оказывается, что знание, даваемое путем ощущений, само предполагает знание – непосредственное усмотрение общих нечувственных начал.
Видя неверность своего первого определения, Теэтет старается определить истинное знание, как «истинное мнение». Но и этот взгляд также решительно опровергается Сократом. Истинное мнение не есть еще знание, и самое отличие истинного мнения от ложного предполагает знание. Мнение может быть истинным или ложным; знание может быть только знанием, т.е. действительным, истинным знанием. Если знание есть истинное мнение, то что такое ложное мнение?
По учению Платона, «мнение» занимает посредствующее место между знанием и незнанием; если же между знанием и незнанием нет ничего посредствующего, то никакое заблуждение, никакое «мнимое» знание невозможно вовсе, как это утверждали еще некоторые софисты : нельзя не знать того, что мы истинно знаем, и принимать это за нечто другое (известное или неизвестное). И наоборот, нельзя знать того, чего мы не знаем. Всякое наше суждение предполагает установление отношений между субъектом и предикатом (отношений сходства, несходства, равенства, причинности и пр.). Но для этого надо иметь понятие о таком отношении (сходства, причинности), а равным образом и о терминах его. Высказывая, например, суждение: «Сократ – человек», я должен знать, что такое Сократ и что такое человек. То же можно сказать и об определении через перечисление составных частей: если мы определяем составные элементы, то мы знаем эти элементы.
Итак, знание предполагает знание – вот результат, к которому приходит, по-видимому, Теэтет. Результат чисто парадоксальный, и собеседники расходятся, ничего не решивши. Но для Платона такой результат имеет положительное значение: он указывает, что знание не основывается ни на ощущении, ни на мнении; истинное знание имеет основание в самом себе; оно вытекает из непосредственного ведения истины, достигается посредством усмотрения общих начал и отношений.
Вот к чему сводится истинное знание. А следовательно, оно имеет свой источник в этих общих началах, в этих умопостигаемых «видах», «формах» или «идеях » сущего. Получить такое знание извне, путем преподавания, невозможно: оно может быть лишь результатом непосредственного духовного созерцания, либо же результатом припоминания, посредством которого мы сознаем то, что уже заключается в нас.
Карпов В. Н. Платон. ТЕЭТЕТ .
ВВЕДЕНИЕ.
Разговоры Платона Теэтет, Софист и Парменид, без сомнения, относятся к числу важней ш их в сборнике Платоновых сочинений; потому что в них решаются вопросы, касающиеся существенных и высших частей системы великого греческого философа; и эти вопросы непременно требовали решения, ибо вызываемы были современным направлением мышления. Было время, когда и в обществе древне-греческом, как впоследствии в новоевропейском, люди мыслящие более всего толковали о том, в чем должно состоять истинное знание и, как истинное, откуда и каким путем оно получается. В то время тревожных порывов ума к истинному знанию жил и философствовал Платон. И мог ли этот гениальный ум равнодушно внимать толкам о таком важном предмете, оглашавшем школы мегардев, элейцев, киринейцев, софистов и политиков, не высказывая собственного своего взгляда на интересующий общество вопрос,—мог ли особенно в том случае, когда мнения о нем расходились в крайности, и не было связи, которая бы соединяла их?
Причина разногласия тогдашних мыслителей относительно
природы и происхождения знания заключалась, конечно, в различии начал, на которых они основывались, а следовательно и в различных точках зрения, с которых один и тот же предмет был ими рассматриваем. Одни поставляли знание в совершенную и исключительную зависимость от чувств, не замечая даже того, что чувству, самому по себе, вовсе не свойственно видеть вещи в различных отношениях; а без отношений не возможно никакое знание. Другие, напротив, природу знания выводили из всех условий материального бытия и разоблачали ее до наготы и пустоты отвлеченного понятия,—в той мысли, что истинное знание должно быть уделом не чувственного усмотрения, а чистой деятельности ума. Очевидно, что эти взгляды, по самой своей противоположности, не могли покровительствовать истине и примириться в ней, не уравновесившись и не сблизившись в чем-нибудь среднем. Такое срединное воззрение на природу знания принадлежало Платону.
Авторитет чувств в деле познания истины ревностно защищала современная Платону школа Протагора. Следуя Гераклиту, что в природе все изменяется и течет неудержимым потоком, Протагор полагал, что единственною мерою постоянно изменяющихся вещей могут служить чувства, а следовательно для одних только чувственных усмотрений возможно и истинное знание. Это знание, конечно, не имело у него значения всеобщего,—как потому, что усматриваемые в вещах перемены не для всех людей одни и те же, так и потому, что закон непрерывной текучести явлений простирается и на самые чувства. Отсюда, по учению Протагора, рождается необходимость довольствоваться знанием частным или личным. Чувство есть не только оракул истины, мера знания, но и знания лишь для себя; так что у всякого человека—своя истина, свое знание. И один человек может иметь преимущество в этом отношении пред другим только тогда, когда в
состоянии бывает навязать ему собственную истину, или расположить его к усвоению собственного знания. Само собою разумеется, что как чувства подлежат тоже закону всеобщей текучести вещества, то вместе с их изменяемостью должна изменяться и мера истины. По этой причине, истинному знанию ничто не мешает переходить в ложное, а ложному в истинное. Отсюда формула Протагоровой школы: παντὶ λόγῳ λόγον ἀντικείσθαῖ , впоследствии сделалась формулою скептицизма (Diog . Laert. IX, 51; там же Мепа g . р. 243). От этого учения Протагора и его последователей не далеко отступало и положение тех, которые поставляли знание в правильном мнении, или в мнении μετὰ λόγου ; потому что источник его указываем был также в чувственном усмотрении. От обыкновенного свидетельства чувств в истинном знании оно отличалось только тем, что опиралось на достаточном основании.
Другая, почти тоже современная Платону школа, занимавшаяся решением вопроса о знании, была элейская. Она развивалась в области чисто формального мышления, и чем далее шла в своем развитии, тем более терялась в отвлечениях. Формы от содержания. Ища истины в вечном, неизменяемом, она это неизменяемое надеялась найти в логическом понятии, чуждом всякой вещественности; так как вещественность подлежит чувствам, а все чувственное изменчиво. И вот конкретное представление предмета, став предметом логического анализа в лаборатории рассудка, распадается на свои начала: форма отвлекается и становится предикатом истины, материя отходит к видимости и дает пищу мнению; первая, чем меньше сберегает содержания, тем больше растет в объеме, и наконец объемлет все, а последняя, чем меньше ограничивается формою, тем больше показывает неопределенности в содержании, и наконец, совершенно потеряв свойственную вещам неделимость, льется нераздельным, обманывающим чувства потоком веществен-
ных стихий. Таким образом для элейской философии и сам человек двусторонен, и все существующее расходится как бы па два лагеря, и между ними нет ничего общего, нет живой связи, которая бы соединяла их в одно целое, как единичный предмет философского созерцания.
Из этих двух направлений тогдашней философии, стремившейся найти источник истинного знания и определить характер его, Платон не одобрял ни того ни другого. Он, конечно, полагал, что знание истины возможно для одного ума, и в этом отношении как будто приближался несколько к понятиям элейцев. Но истина у него была не то, что ens intellectus, —не формальное бытие, в каком принимали ее Парменид и Зенон, а реальное; здесь поприще деятельности указывалось не рассудку, а силе идеального созерцания, способной проникать своим взором в самую природу или сущность вещей, И видеть в них вечные, неизменяемые условия существования. С другой стороны, не оставлял он, для этой цели, пользоваться и чувствами, следовательно не отвергал безусловно и учения протагорейцев. Но понятие его о чувственном усмотрении было таково, что оно не имеет силы для вступления в самое святилище истины, а только водится мнением о ней, то есть с большею или меньшею вероятностью предполагает ее. На мир явлений Платон смотрел так, что и не почитал его миром sui generis, чем-то чуждым царству истины, как понимали его элейцы, и не признавал в нем области, исключительно достаточной для ознакомления человека с истиною, что утверждала школа Протагора,—но разумел его как чувствопостигаемое выражение идей, и потому в каждом впечатлении со стороны внешней природы видел как бы πάθημά τι , которым в душе должен быть пробужден один из образов мира мыслимого (Theaet. р. 191 С— D; 194 D). Этот взгляд Платона на познание истины казался тогда столь оригинальным и новым, и
настолько отличался от философских воззрений того времени, что современники либо не соглашались с ним, либо вовсе не понимали его.
Надобно полагать, что Платон написал этот диалог с намерением прояснить свое учение об истинном знании и защитить его против всех возражений. И почти несомненно, что осуществлением такого намерения был не один Теэтет, но вместе с ним также Софист и Парменид, потому что в Теэтете излагаются и опровергаются только те возражения, которые делаемы были со стороны философов, основавших знание на чувствах; опровержение же положений философии элейской, или изложение доказательств, почему отвлеченное ее одно не имеет никакой цены для знания, мы читаем в Софисте; а что касается Парменида, то, в двух первых диалогах опровергнув чужие мнения, Платон здесь, очевидно, излагает собственные понятия о том же предмете. Это намерение, расположившее его к написанию означенных диалогов, без сомнения, возникло в нем еще тогда, когда, вслед за смертью Сократа, он, вместе с некоторыми другими его учениками, удалился в Мегару к Эвклиду. Проживание у Эвклида, конечно, доставляло ему много случаев входить в рассуждения о началах знания и слышать споры мегарцев об этом предмете, и эти состязания могли тем сильнее напечатлеться в его памяти, чем с большею горячностью производились; а горячность в спорах могла возбуждаться в означенное время особенно тем, что мнения последователей Протагора и учеников элейской школы, кажется, защищаемы были и некоторыми слушателями Сократа, когда они, сошедшись в Мегаре, проводили время в дружеских беседах о важнейших вопросах философии. Во первых, известно, что глава мегарских эристиков, Эвклид, далеко отступил от Сократова взгляда и ближе подошел к учению Парменида (Diog . L. II, 124). Сближение его с началами мышления элейского было так
велико, что древние писатели, говоря о школах элейской и мегарской, иногда смешивали их одну с другою. {Cicer. Academ. II, 42). Ясное свидетельство об этом находим и у Аристокла в «Евангельском Приготовлении» Евсевия (XI, р. 510 С; XI V , р. 756 С), где между прочим говорится: τοιαῦτα γὰρ τινα πρότερον μεν Ξενοφάνης καὶ Παρμενίδης καὶ Ζήνων καὶ Μέλισσος ἔλεγον , ὕστερον δέ οἱ περὶ Στίλπονα καὶ τούς Μεγαριχούς . Но, тогда как одни из Сократовых учеников защищали мнения элейцев о знании и его источниках, другие, подобно протагорейцам, благоприятствовали в том же отношении началам сенсуализма, поддерживали авторитет чувств. Главою философов этого рода был прежний слушатель Сократа Аристипп, основатель школы киринейской, и такая живая связь между учеником и учителем тем сильнее располагала Платона исследовать мнения киринейских сенсуалистов. Хотя ниоткуда не известно, что и Аристипп также, по смерти Сократа, жил сколько-нибудь времени в Мегаре; однако ж учение его как бы невольно представлялось Платону, когда он своим словом касался подобного взгляда на источник познания, и заметно, что такой взгляд ему вовсе не нравился. В самом деле, положения Аристиппа имели много сходства с Протагоровыми. Как Протагор меру вещей теоретически хотел видеть в чувственном усмотрении человека; так Аристипп мерою их в смысле практическом почитал чувственное свидетельство сердца, и делил его на приятное, скорбное и среднее (Sext. Emp . VII , 99). Равным образом, как, по Протагору, знание заимствовалось не от самых вещей, а от действия их на чувство; так и по Аристиппу, вещи были приятны или не приятны не сами по себе, а в значении τῶν παθημάτων , —поколику они в своих впечатлениях κατάληπτα и ἀδιάψευστα (Aristocl. ар. Euseb. Praep. Evang. XI V , p. 764 C sqq. Sext. Emp. adv. Mathem. VII, 190 sqq. V I, 53. Diog. L. II, 92). Поэтому можно смело сказать, что в первой части Теэтета, в которой
налагается и опровергается учение Протагора, Платон нисколько не менее затрагивает и колеблет также сенсуализм Аристиппа. Гораздо труднее решить, кого философ разумеет во втором и третьем отделе рассматриваемого диалога; ибо нам не известны установители того начала, что знания истины надобно искать в правильном мнении; да и сами последователи Сократа, по-видимому, не устанавливали его, хотя, сколько можно судить по тонкому исследованию этого положения в Теэтете, между ними долженствовали быть некоторые защитники правильного мнения. А что многие из них с особенным участием решали вопрос о знании и истине, достаточно свидетельствует Свида, указывающий на книги Критона περὶ τοῦ μαθεῖν , περὶ τοῦ γνῶναι и περὶ ἐπιστήμης (см. у него сл. Κρίτων , и Diog. Laert. II, 121). Кроме того, и у Диогена Лаерция встречаем мы указания на сочинения Симона περὶ ἐπιστἡμης , περὶ κρίσεως , περὶ τοῦ διαλέγεσθαι (II, 123), равно как на письменные рассуждения Симмиаса фивского περὶ λογισμοῦ , περὶ ἀληθείας (II, 124), и на некоторые другие. Соображая это, Шлейермахер не без вероятия догадывается, что правильное мнение казалось достаточным источником знания Антисфену, и что следовательно и об этом могли быть споры.
Наша уверенность, что намерение написать Теэтета, Софиста и Парменида возникло в душе Платона по поводу рассуждений о знании, происходивших в Мегаре, подтверждается, по-видимому, самым вступлением в рассматриваемый диалог, так как оно походит на памятник того времени, когда Платон жил в этом городе. Во вступлении рассказывается, что Эвклид мегарский изложил разговор о природе знания, происходивший некогда между киринейским математиком Феодором, Сократом и Теэтетом,— одним молодым афинянином. Об этом разговоре Эвклид припоминает по тому случаю, что сейчас только привез он с собою того самого Теэтета, взятого им с поля битвы при Коринфе. Услышав о разговоре, Терпсион,
тоже мегарец и некогда ревностный ученик Сократа, сряду просит Эвклида передать ему содержание той беседы. Эвклид обещает. И вот оба они приходят домой, и там на одного слугу возлагается обязанность прочитать им вслух упомянутую рукопись. Таково вступление в диалог. В нем выставлены на вид обстоятельства, слишком далекие от содержания диалога. Почему вводится здесь рассказчиком Эвклид, основатель школы эристиков? Для чего велит он читать свою рукопись по просьбе Терпсиона, который жил в Мегаре и принадлежал к числу учеников Сократа? Что заставило Платона сценою передачи разговора избрать именно Мегару, а не Афины? Вся эта обстановка кажется совершенно произвольною и случайною, если вопросов решаемых в Теэтете, Софисте и Пармениде не поставлять в связь с мегарскими беседами Платона; только сказанною внешнею связью с ними объясняется уместность высказанных во введении обстоятельств.
Впрочем из предположения, что в Мегаре происходили споры между Сократовыми слушателями об источниках истинного знания, нельзя еще заключить, будто к тому самому времени относится и выход в свет Платонова Теэтета. Искусное и зрело обдуманное изложение этого сочинения позволяет догадываться, что в душе Платона по поводу тех споров возникла только первая мысль о нем, самое же написание его, равно как Софиста и Парменида, по всей вероятности, совершилось позднее, когда Платон, после долговременных путешествий, возвратился в отечество. К этой догадке приводят нас некоторые признаки, встречающиеся в самом диалоге. Во первых, в нем упоминается о Протагоре, как уже умершем; а из этого следует, что Теэтет мог быть написан не раньше, как в третьем году XCIII олимп., или за 410 лет до Р. X. Но это еще не важно. Гораздо ближе решается вопрос тем обстоятельством, что в начале рассматриваемой книги говорится о коринфском сражении. Под этим сра-
жением, очевидно, разумеется не иное, как битва, упоминаемая Димосфеном в речи против Лептина, и называемая им (§ 11) η μεγάλη μάχη πρὸς Λακεδαιμονίοος , ἡ ἐν Κορίνθῳ . Стало быть, тогда была война, возгоревшаяся чрез десять лет после пелопонесской и известная под именем Коринфской. Но сражение при Коринфе, по свидетельству Ксенофонта (Hellen . IV, 2. 8) и Диодора (XIV, 83), произошло при архонте Диофанте, на втором году XCVI олимп. А пред этим временем Платон в продолжение трех или четырех лет посещал Италию, Киринею и Египет (Diog. L. III, 6. 7). Следовательно, Теэтет мог быть издан не прежде, как по возвращении Платона в отечество. Если бы впрочем выход Теэтета мы отнесли еще к более позднему времени, то мнение наше было бы ошибочно; ибо в конце этого диалога говорится о доносе Мелита на Сократа, что показалось бы очень странным: едва ли бы Платон упомянул об обстоятельствах этого обвинения, по давности времени уже забытых. И так, Теэтет, по всей вероятности, написан около третьего или четвертого года XCVI олимп., то есть чрез шесть иди семь лет после смерти Сократа, когда память о суде над ним еще жива была в народе. Это весьма хорошо согласуется и с высказанным в Теэтете взглядом Платона на жизнь философа. Платон, потрясенный страшною катастрофою своего учителя, решился не принимать на себя общественных обязанностей, и кажется, не было недостатка в людях, которые укоряли его за такое равнодушие к обществу. Но укоризны в этом отношении могли делать ему не прежде, как тогда, когда он возвратился из первого путешествия и богатым запасом своих познаний стал делиться с друзьями и учениками. И не естественно ли было ему в то время прежде всего оправдывать себя пред глазами этих обвинителей, выставляя на вид достоинство и высокое значение философии , посвящающего свою жизнь созерцанию вещей божественных? Это
самое и делает он в своем Теэтете, начиная со стр. 172 С—до 177 В, где не без некоторой горечи высказывает различие между жизнью философа и деятеля гражданского, и показывает, насколько первая предпочтительнее последней. Та же мысль раскрывается и в Горгиасе (р. 484 D).
Нельзя не сказать несколько слов и о господствующем тоне Теэтета. Весь этот диалог отличается особенно искусною и изящною иронией: здесь Сократ тонкою своею шуткой преследует и протагорейцев, и последователей Гераклита, и всех тех, которые философские свои положения основывали на авторитете Гомера, Орфея и других древнейших поэтов. Притом учение философов , подвергаемое критическому рассмотрению, объясняется здесь многими соображениями, сравнениями и подобиями, чтобы тем легче было опровергнуть его. И все это делается с такою тонкою иронией, что человек, не совсем знакомый с тоном и оборотами Сократовой речи, с первого раза может подумать, будто Сократ одобряет нелепые представления тогдашних философских школ. Таково, например, представление птичника или голубятни (р. 197 С— D), которую иные из толкователей Платона, по смешной ошибке, относили к образам, выражающим собственные его положения. Не менее изящною является шутка Сократа и по самому способу его рассуждения; потому что Сократ часто подделывается здесь под такую именно диалектику, какою пользовались философы им обличаемые, то есть смело вдается в софистические хитросплетения, до которых они были большие охотники, либо рассуждает от лица своих противников и запутывает их в их же собственных сетях. Кто не возьмет на себя труда подметить все эти своеобразности в рассматриваемом диалоге, тот далеко не войдет в мысль Платона, и даже поставит ему в вину ту мнимо-нелепую болтливость, в которой он является не более, как искусным и лукавым Момусом. Ведь и сказать
нельзя, как много вредит истинной мысли Платона такое истолкование ее, что будто в Теэтете господствует рассуждение серьезное, чуждое всякой шутки и веселости: такой истолкователь гоняется просто за тенью, не замечая самой вещи.
Рассмотрим теперь, в каком порядке и последовательности развивается содержание Теэтета. Это рассмотрение нужно особенно потому, что главная в этом диалоге идея идет излучинами, уклоняется в стороны, следовательно делает не бесполезным указание руководительной нити, имеющей облегчить внимание читателя.
Сцена собеседования в Теэтете открывается тем, что киринейский математик Феодор и Сократ случайно встретились в одной гимназии. Феодор тогда, надобно полагать, преподавал в Афинах математику, потому что был, как говорится (Theaet. р. 145 А), γεωμετρικός , ἀστρονομικὸς καὶ λογιστικός τε καὶ μουσικός , καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται . Нет ничего удивительного, что, владея такими познаниями, он заговорил с Сократом в духе последователя Протагорова; потому что он, как читаем (р. 161 В, 162 А, 168 Е), был друг Протагора и до того одобрял образ его мыслей, что, по смерти этого софиста, защищал его мнения, будто наследие отца. Но положения Гераклита ему не нравились, потому что были темны (р. 179 С sqq). И в математике, который во всем требует ясности, это не удивительно. Не странно равным образом и то, что он признает себя непривычным к речи разговорной (р. 146 В), и потому высказывает свое нерасположение к собеседованию. Тем не менее однако Платон приписывает его науке высокое значение, из чего становится вероятным, что в Киринеи он ревностно слушал этого математика (Diog. L. III, 6). Встретившись с ним в гимназии, Сократ спрашивает его о способностях юношей, посещающих его школу. Феодор более других между ними хвалит Теэтета, отличающегося благонравием и скромно-
стию, прилежанием к учению и философски настроенною природою. Между тем входит сам Теэтет. Сократ тотчас подзывает его и, по поводу мнения о нем Феодора, осыпает его похвалами. А так как он отличался особенно успехами в знании, то Сократу естественно было спросить его о силе и природе знания, и высказать свое желание, чтобы он изложил свое понятие об этом предмете. Теэтет тотчас приступает к делу.
Для составления понятия о знании, без сомнения, прежде всего надлежало найти его род; но молодой человек, вместо того, перебирает частные формы, которыми оно выражается и, думая уловить его в этих отдельных формах, допускает ошибку. Сократ дает ему заметить неверность составленного им понятия,—и юноша с умом, настроенным к философскому мышлению, тотчас догадывается, чего хочет от него Сократ. Быстрая сообразительность Теэтета радует Сократа. Доволен он и тем, что юноша сознает трудность предложенной ему задачи, и настоящее усилие его ума уподобляет болезнованию родильницы, а эротематическую свою методу—искусству повивальной бабки (р. 146 А—151 D). Высказав такое подобие, сын Софрояиска снова убеждает Теэтета определить, что разумеется под именем знания,—и молодой человек предлагает одно за другим три определения, исследование и опровержение которых составляет все содержание диалога. Во-первых, он говорит, что знание есть чувство: но это определение опровергается; потом ищет знания в правильном мнении: но и это опять оказывается несостоятельным; тогда он обращается к правильному мнению μετὰ λόγου , —однако ж и это Сократу кажется не совсем верным.
По первому положению Теэтета, знание принадлежит чувству: кто усматривает что-либо чувствами, тот и знает то, что усматривает. Выслушав это положение, Сократ замечает, что Теэтет повторил мнение Протагора, только иными словами выразил его: ибо Протагор
говорит, что человек есть как бы мера всех вещей, то есть, для каждого что-либо таково, каким кажется ему самому; Теэтет признается, что он действительно где-то читал подобное мнение, и почти согласен с ним. Тогда Сократ начинает рассматривать его со всех сторон и объясняет так, как будто бы сам покровительствует ему (р. 151 D —152 С). Рассуждение его об этом таково: нет ничего, что было бы нечто само по себе, или одно и то же; ибо все относится к чему либо иному. А отсюда следует, что ничему самому по себе нельзя приписать какое либо качество: ибо что называем мы малым, то самое и велико, и наоборот, что кажется тяжелым, то самое и легко. И Протагор в этом отношении согласен с Эмпедоклом, Гераклитом, Гомером, Орфеем, Эпихармом и другими. Поэтому все надобно производить от движения, изменения и взаимного отношения вещей, и это все принято, без особенной точности, называть бытием; ибо повсюду господствует тот постоянный и неизменный закон, что в движении все происходит, а в покое все исчезает. Это объясняется между прочим природою и причинами цвета; ибо цвет сам по себе существует ни вне зрения, ни в зрении, а во взаимной связи глаз и предметов видимых. Например, белизны нет ни в самой вещи, называемой белою, ни в глазе; но как скоро к глазу приражается какое либо внешнее впечатление и движение,—глаз становится видящим—без видения, а вещь—белою—без белизны; так что уничтожь глаз и производящую движение вещь,—белизны более не будет. И нельзя думать, будто в вещах самих по себе есть какое-нибудь качество: самое даже легкое наблюдение над вещами показывает, что одна и та же вещь, без всякой перемены в своей природе и помимо собственной нашей силы, кажется нам то тою, то другою. Сравним, например, шесть игральных костей с четырьмя другими: первые целым и половиною больше
302
последних. Но когда те сравниваются с двенадцатью, то составляют только половину их. Из этого очевидно, что одно и то же число бывает то больше, то меньше, чего, конечно, не могло бы быть, если бы числа заключали в себе известную определенную величину (р. 152 D —155 Е). И так, надобно думать, что кроме движения и перемены нет ничего, и что отсюда все получает свое начало. Но движений есть два рода: один усматривается в действии, другой—в страдании; и когда они соединяются между собою, с одной стороны тотчас происходит чувство, с другой—чувствуемое. Что движется, то, входя в глаз, наполняет его зрением и дает ему способность видеть, и само вместе с тем получает некоторое качество, как, например, белизну, и кажется белым; тогда как само по себе оно ни бело, ни черно, да и цветом-то качествуется лишь до тех пор, пока усматривается очами. И так, все качества вещей происходят от соединения действующего и страдающего, и потому о всех вещах надобно сказать, что они не существуют , а бывают (р. 155 Е—157 D). Стало быть, что чувствуется, то действительно и есть, и Протагор правильно судил, что человек есть мера всех вещей, или что для каждого человека собственное чувство есть достаточный судья истины. Но вот иной возразит, что люди часто чувствуют лживо, усматривают, например, ложные образы в сновидениях, в болезнях, в помешательстве. Впрочем это возражение ничего, не значит; потому что если истина вещей находится в зависимости от чего-нибудь, а самостоятельного бытия не имеет, то явно, что какою она чувствуется, такова и есть. Если, например, больному или помешанному вино, которое он пьет, кажется горьким,—вино для него действительно таково и есть, каким кажется, как скоро быть и казаться одно и то же. Притом ничем нельзя доказать, что чувствуемое нами в сновидении или в помешательстве ложно, так как нет признака истины,
которым сон отличался бы от бодрствования, состояние же болезней, если оно продолжается и недолго, надобно оценивать не продолжительностью времени (р. 157 Е—161 В). Впрочем против положения Протагора могут сказать и нечто другое: из него следует, скажут, что свиньи, собаки и прочие животные столь же разумны, как и люди, и что человек, в этом отношении, равняется богам. Но на началах Протагорова учения опровергнуть их не так трудно: во первых, мы внушим тем людям, что о богах тут упоминать не следует, потому что у Протагора остается под сомнением, существуют боги, или нет; а что, говорят, унизительно для человека равняться в мудрости с самым грязным животным, то такая мысль о животном составлена произвольно и предрассудочное, а не под диктовку истины. Есть и еще сомнение. Могут сказать: вот мы слышим слова иностранных языков, однако ж не понимаем их; следовательно чувствовать что-нибудь и знать или понимать—не все равно. На это мы ответим так: в таких вещах ничто не познается кроме того, что чувствуется (р. 161 С—163 В). Столь же легко опровергнуть и все, что стали бы, может быть, возражать против Протагора. Если бы, например, кто сказал, что мы многое знаем, чему научились прежде и чего теперь не постигаем чувствами, тогда как, по Протагору, там нет уже знания, где чувство более не действует; то ответ на это был бы тотчас готов. Память, то есть, вовсе не то, что чувство: называемое знанием по памяти совершенно отлично от того, что некогда было чувствуемо; так что одно воспоминание не дает нам никакого знания. Не важнее и то возражение, что многое усматривается чувствами темно и издали, и знание тогда не получается. Ведь кто чувствует темно и издали, тот совершенно отличен от другого, чувствующего то же самое ясно и вблизи; ибо легко понять, что знание различных людей должно быть тоже различно. Сверх сего и то, по-видимому, справедливо, что
никто своим знанием не превосходит другого, как скоро для всякого истинно то, что кому представляется; так как несомненно, что и сами люди, наравне с животными, по состоянию тела и души, бывают или хуже или лучше. Кто хворает, тот находится в худшем состоянии сравнительно с другим, который пользуется здоровьем. Врач знанием лекарств превосходит не знающего их. Философы и ораторы равным образом должны быть предпочитаемы людям неученым,—не потому, чтобы они яснее усматривали природу вещей, а потому, что им понятнее польза того или другого человека; ибо только польза есть единственная и надежнейшая мера мудрости. Чем больше, то есть, кто знанием полезности может служить другим, тем тот и мудрее (р. 163 С—168 С).
Доселе Сократ разговаривал с Теэтетом и, ограничиваясь ясным изложением учения Протагорова, тщательно скрывал собственное о нем мнение. А теперь он убеждает Феодора принять участие в разговоре и, когда этот согласился, тотчас начинает опровергать те самые положения, которые прежде объяснял. Не все люди, говорит, водятся истинными мнениями; часто случается, что они лживо чувствуют, и потому, в отношении к одной и той же вещи, бывают несогласны сами с собою. А из этого явно, что одно и то же может быть и истинно и ложно; из этого следует также, что чем большим числом людей одобряется известное мнение, тем истиннее должно оно казаться. Стало быть, мнение Протагора, подтверждаемое согласием меньшинства, заключает в себе мало истинности, и как не одобряемое многими, оно ложно. Итак, не соглашающиеся с Протагором необходимо должны недоумевать, что такое защищает он, и истина у него подвергается опасности потерять значение истины. Кроме того, по замечанию Сократа, Протагор сам уступает, что во многих вещах одни бывают мудрее и знающее других: а это, если получше вникнуть в дело, много вре-
дит его положению. Он не отвергает того, что общества, постановляя что либо для общей пользы, постановляют не всегда полезное, даже охотно уступает, что между людьми, публично советующими нечто, или не советующими, относительно полезности их советов, бывает великая разница; так что и здесь опять возбуждается сомнение, могут ли они правильно и здраво отличить полезное от неполезного, хотя каждый из них о справедливости, благочестии, благонравии и честности судит так, как действительно ему кажется (р. 168 С—172 С).
После сего Сократ вдруг прерывает свою речь и, увлекаясь какою-то мыслью, вдается как бы в свободное рассуждение, без определенной, по-видимому, цели. Феодор объясняет это избытком у них досуга, не ограничивающего их собеседования никакими пределами времени. Размышляя об этом, Сократ признает счастливым жребий философов, которые, не задерживаясь никакими расчетами времени и обстоятельств, могут свободно рассуждать между собою об относящихся к философии предметах,—не то, что ораторы, связанные тесными временными условиями и сидящие в собраниях, сравнительно с философами, как рабы. Ведь есть, говорит, такие люди, которые с детства привыкли к рабскому образу чувствования и деятельности, которые низко льстят судьям и народу, будто своим господам, горячо спорят и ссорятся между собою, зорко видят, что полезно, но в душе обезображены рабством и носят в себе всякого рода порчу, лгут и обманывают, и не удерживаются, от неправды. Таковы-то те людишки, вертящиеся в судах и собраниях, хотя кажутся и очень мудрыми. Совсем другое дело—истинные философы . Они не занимаются делами гражданскими, не думают о приобретении почестей, презирают благородство и богатство, невежды в несении обязанностей частных и общественных, не ценят могущества и силы, и так мало заботятся о внешнем, что для прочих людей служат
предметом насмешек. За то в чем состоит сама по себе справедливость и несправедливость, и что надобно почитать истинным счастьем человека,—это знают они лучше всех, занимающихся делами общественными, потому что последние о таких вещах рассуждают очень дурно. И так, если бы все сознавали превосходство философии, то между людьми обреталось бы больше мира и меньше бедствий. Но зло в человечестве совершенно истребиться не может, потому что необходимо быть чему-нибудь, что противоречило бы добру. От всякого зла свободна только природа божественная. Поэтому философ своею целью почитает то, чтобы от этих земных вещей как можно скорее бежать к Богу, то есть, ближайшим образом уподобляться ему. А такой цели достигает он, строго соблюдая справедливость и храня благочестие с мудростью; потому что Бог сколько совершен, столько же и справедлив. Знание этого дела составляет истинную мудрость, в сравнении с которою уменье вести дела гражданские кажется мелочным, ничтожным. Хотя люди с таким уменьем удивительно как много думают о себе; но на самом деле думы их—мечты, как скоро не знают они того, что должен знать всякий. Они не знают и не верят, что для несправедливости блюдутся величайшие наказания, и что несправедливые потому суть люди самые несчастные. А когда слышишь от них порицание и обвинение философии, и требуешь, чтоб они нашли основание унизительного мнения о ней,—у них теряется все красноречие и на языке остается только детская болтливость (р. 172 С—177 В).
Это рассуждение Сократа о различии жизни гражданской и философской есть как бы мимоходное и случайное, однако ж изложено не без цели. Оно направлено против тех, которые порицали как других последователей Сократовых, так особенно Платона, что он, оставив дела гражданские, всю свою жизнь посвятил философии. Нельзя
не заметить, что это место находится в теснейшей связи и с содержанием целого диалога. К этому рассуждению Сократ увлечен был мыслью о тех, которые на все смотрели в отношениях, не имея в виду истины самостоятельной, а потому и не могли решить, на каком основании действительно полезны те гражданские постановления, которые почитали полезными. И так, мысли Сократа о жизни философа имеют значение эпизода, подготовляющего начало для рассуждений об истинном знании и указывающего источник его в существе совершеннейшем—в Боге. Посмотрим, как отсюда начинает он развивать положительные свои понятия. Люди, занятые делами гражданскими, сами сознаются, говорит он, что общество не уверено в полезности своих постановлений. И это еще яснее открывается из самого понятия о пользе. Ведь польза относится непременно к времени будущему, которое имеет в виду государство, начертывая известные законы. Посему если человек есть мера всех вещей, то человек же должен измерять отношения вещей и во времени будущем. Но здесь надобно заметить, что умеющий поставлять в правильное отношение вещи будущие должен судить лучше тех, которые не имеют такой способности. Это подтверждается примером самого Протагора. Он объявлял, что об осуществлении советов, высказываемых в судебных речах, может судить лучше прочих,—и что ему верили, свидетельствует большое число его учеников. Стало быть, сам Протагор должен был бы согласиться, что правильною мерою вещей следует почитать не всякого, а только мудрейшего. Надобно еще взглянуть и на настоящие впечатления чувств, которым гераклитовцы уступают познание истины, только темно и запутанно рассуждают об этом предмете. Не будем говорить о философах, все останавливающих, а скажем о тех, у которых все движется. Должно различать два рода движения: одно качественное, другое—местное. Вещь может переходить из одного
места в другое, может также из такой делаться не такою,—из белой черною, из мягкой жесткою, и так далее. И необходимо, чтобы все двигалось обоими родами движения; а иначе выйдет, что одно и то же движется и не движется. Поэтому, когда движется белое,—необходимо, чтобы оно и изменялось; когда движется зрение,—ему тоже нельзя обойтись без перемен; так и все прочее. Следствие отсюда ясно само собою: ничто, то есть, не может быть или казаться ни белым, ни не белым, но должно и казаться и вместе не казаться как белым, так и не белым. А этим в суждении и познании истины подрывается весь авторитет чувств (р. 177 С—183 С).
После сего очередь собеседователя снова перешла к Теэтету, так как Феодор предварительно сказал, что он будет участвовать в разговоре не долее, как сколько потребует того спорная сторона предмета. Сократ и за этим, конечно, продолжает опровергать главное положение Протагора; но основание опровержения теперь у него новое,— теперь он полагает, что и из самой природы чувств можно вывести заключение, что суждения об истине или какого либо знания им приписать нельзя. Это доказывается следующим образом. Каждому чувству, говорит Сократ, свойственны особые впечатления; одни принимаются только ушами, другие ноздрями, иные глазами, и так далее. Но впечатления отдельных чувств мы часто сравниваем между собою и общее многим сводим в одно. А это никак не может быть производимо самими органами чувств. И так, остается заключить, что здесь должна иметь место работа ума, господствующая над чувством, ибо такие, например, понятия, как подобие и наподобие, тожество и различие, сущность и несущность, и многие другие, зависят не от чувств, а действительно принадлежат только уму. Стало быть, несомненно, что суждение ума стоит выше впечатлений, производимых чувствами. К тому же чувствами владеем мы с самого рождения, а способности понимания
и умозаключения в то время еще не имеем; поэтому, что надобно почитать полезным или неполезным,—это у нас достояние уже позднейшее, приобретаемое уже с развитием понятий,—путем опыта и науки. Из всего этого ясно, что знание никак не может заключаться в усмотрениях и чувствах (р. 183 С—187 А).
Эти рассуждения Сократа против теоретического сенсуализма Протагорова раскрывали предмет так тонко и опровергали его столь решительно, что, по-видимому, нечего было и прибавить к увеличению их твердости и основательности. Но жизнь берет свое: практическая настроенность духа бременеет свойственными себе убеждениями; а убеждения, влияя на направление ума, зарождают в нем мнения и развивают их, как достаточные основания знания. Поэтому, кончив дело с чувствами, находившими защитника своих прав в Протагоре, Сократ начинает теперь говорить против так называемых философов здравого смысла, или, по-тогдашнему, правильного мнения . Шлейермахер и Аст замечают, что такими философами Платон почитал Антисфена и его друзей. Но мы не ручаемся за верность этой догадки, если только под именем правильного мнения будем разуметь не практическое понятие или правило жизни, а теоретическое начало познания. Приступая к раскрытию содержания этой части Теэтета, надобно прежде всего обратить внимание на то, к какому Сократ прибегает способу для опровержения защитников правильного мнения. Он явно пользуется здесь такими диалектическими тонкостями и хитросплетениями, к каким, по всей вероятности, прибегали мыслители, им опровергаемые. Подобный мимизм есть характеристическая черта Платона, замечаемая в изложении многих его сочинений. Но предположив это, нельзя уже думать, что Платон здесь разумел киников, а скорее следует остановиться на той мысли, что учение о важности правильного мнения весьма сродно с положениями тоже Протагора и его последовате-
лей. Известно, что мнение, δόζαν , Платон ставил в зависимость от чувства: так что если вещи постигаются и обсуживаются правильно, то происходит мнение правильное, а когда нет,—ложное (см. Тит. р. 37 В). Но были мыслители, смотревшие на впечатления чувств как на источник знания, в том предположении, что ими условливаются правильные суждения ума. Этих-то мыслителей имеет здесь в виду Сократ, и вот что говорит о них.
Он начинает свое рассуждение решением вопроса, возможно ли какое-нибудь ложное мнение ,—и софистически дает ему такое направление, что ложное мнение, по значению его доказательств, оказывается невозможным; а отсюда потом заключает, что в правильном мнении знание состоять не может. О каких вещах мы мним, говорит он, те или знаем , или не знаем . Но ложное мнение происходит или так, что чего кто не знает, то принимает за иное, чего тоже не знает; или так, что что кто знает, то принимает за иное, что тоже знает; или, наконец, так, что чего кто не знает, то принимает за иное, что знает. Но так как из всех этих положений нельзя правильно допустить никоторого, то следует, что ложного мнения найти невозможно (р. 187 В—188 С). К тому же присоединяется другое доказательство, если только, при исследовании природы мнения, можно брать в счет не только знание , но и сущность . Положим, ложное мнение есть то, по которому мы мним нечто такое, чего нет . Но полагать это отнюдь нельзя: ведь как невозможно, чтобы кто видел и однако ж ничего не видел, так равно необходимо, чтобы кто мнит, в самом деле что-нибудь мнил; а кто ничего не мнит, тот и не имеет никакого мнения. Стало быть, о том, чего нет, не может быть никакого мнения. А отсюда следует, что ложное мнение усматривается не в том, что мнится то, чего нет (р. 188 D —189 В). Далее поставляется на вид третье основание для исследования лож-
ного мнения. Может быть, оно усматривается в изменении образуемых умом понятий. Верна ли эта мысль о нем? В таком изменении или могут обмениваться между собою оба предмета, мыслимые в душе, как бы разговаривающей с самой собою, или уму человека мыслящего представляется только один из них. Если мыслится и изменяется только один из них, то произойдет то, возможность чего мы уже отвергли, то есть, возможность мнения о том, чего нет. А когда будут смешиваться оба предмета,— мы придем в странное противоречие с самими собою: будем принимать прекрасное за безобразное, хорошее за худое, коня за быка, единицу за двоицу,—чего не бывает ни во сне, нив сумасшествии (р. 189 В—190 Е). Наконец, ложное мнение может происходить от обмена чувственных усмотрений и примет ума. Представим, что в нашем уме есть как бы восковая таблица, на которой отпечатлеваются образы вещей, и что у одного она меньше, у другого больше, у одного чище, у другого грязнее, у одного сырее, у другого суше и тверже. Поколику на этой таблице написаны образы того, что мы чувствуем, потолику есть у нас память и знание о том, что принято нашими чувствами. Но, пересматривая все способы, какими может происходить обмен чувственных усмотрений и образов ума, мы легко находим, что обман уместен бывает в тех случаях, когда в которой либо части чувств окажется ощущение не довольно точным, или первое познание—мало удовлетворительным. Например, сохраняя в своей душе образы Теэтета и Феодора, я, по прошествии долгого времени, вижу их издали, и стараюсь каждому приписать те черты, которые принадлежат тому и другому и под которыми их знаю, но не выдерживаю правильности: Теэтета мню Феодором, или усматриваю только одного, тогда как в моем уме есть образы обоих, и таким образом изображение одного, по ошибке, переношу на другого,—видя Теэтета, принимаю его за Феодора. Причину этого люди
мудрые находят в том, что представляемая нами в душе восковая Таблица бывает либо довольно велика и хорошо приготовлена, а потому воспринимает образы верно и сохраняет их долго, либо мягка, груба и грязна, и оттого образы на ней меньше верны и тверды. Отсюда происходит то, что иные люди бывают понятливее, памятливее и способнее к воспринятою правильных мнений, а иные, напротив, непонятливы, забывчивы, тупы и склонны к ошибкам (р. 190 Е—195 В).
Раскрыв это таким образом и остроумно объяснив, Сократ вдруг изменяет свой взгляд на предмет и начинает сомневаться в верности своих исследований. Он думает теперь, что ложному мнению надобно дать больший объем, чем каким оно доселе было описываемо; потому что его источник скрывается не в одном смешении чувственных усмотрений с представлениями ума, но оно может происходить и тогда, когда смешиваются между собою самые умственные представления. Это доказывает он следующим образом. Положим, говорит, ты спросил бы кого-нибудь: семь и пять, сложенные в одно, какую составляют сумму, и тебе отвечали бы «одиннадцать»; ты в этот момент легко заметил бы, что те, содержащиеся в душе, представления чисел взаимно соединяются именно душою. И так, остается допустить, что либо нет вовсе никакого ложного мнения, либо возможно то, что прежде было отвергнуто,—может, то есть, кто либо не знать того, что он знает (р. 195 В—196 С). Теэтет жалуется, что такой взгляд для него очень тяжел. И не удивительно; потому что все это рассуждение перепутано тонкостями софистической диалектики. Посему Сократ, сверх ожидания, думает бросить эту нить исследования и решается тотчас поднять вопрос о силе и природе самого знания; так как ложное мнение, очевидно, может быть с точностью определено не иначе, как по рассмотрении этого вопроса,—по возвращении, то есть, к прежнему, с чего начали они свою
беседу (р. 196 С—197 В). Некоторые (кто именно—не известно) полагают, говорит Сократ, что знать есть не иное что, как иметь о чем-нибудь знание; а мы скажем: владеть знанием; ибо иметь его и владеть им—не одно и то же. Различие между сими понятиями состоит в том, что, имея что либо, мы уже пользуемся этим, а владея вещью, можем по произволу пользоваться и не пользоваться ею. Возьмем для примера голубятню. Находящиеся в ней голуби суть предмет обладания, а тех, которые пойманы нами в голубятне, мы имеем. Сравним же представления нашего ума с птицами, а самый ум—с птичником, в котором они содержатся. Представления ума, как бы запертые кем либо в его птичнике, находятся, говорим, в его владении; то есть, он сохраняет представления вещей, им признанных. Но тех из них, которые в этом самом птичнике бывают улавливаемы, он имеет; так что занятие наукою есть как бы некоторая ловля представлений ума. Пусть бы кто, например, изучил арифметику, и однако ж не делает из нее никакого употребления: он владеет ею. А кто, напротив, прилагает ее к чему-нибудь, тот ее имеет, то есть, задает себе относящиеся сюда вопросы, будто не зная предмета, тогда как знает его. Из этого ясно, что бывает как бы двоякая ловля представлений: одна производится для овладения, а другая приносит пользу уже владетелю, когда он схватывает и как бы держит в руках то, чем владеет. Ведь можно всякому давно известное, по прошествии некоторого времени, воспроизводить в своей душе, и как бы вторично держать то, чем всегда владел, но чего никогда не брал на мысль. Если же так, то ложное мнение происходит следующим образом: из всех представлений ума, какими кто владеет, некоторое старается он иметь, то есть ввести в употребление, но вместо того, которое хотел, сознательно схватывает другое, и таким образом ошибается в задуманном выборе (р. 197 В—199 В).
Доселе Сократ старался происхождение ложного мнения объяснить из природы самого знания. Но он полагает, что и на этом остановиться еще нельзя; ибо ему кажется чрезвычайно странным, что ложное мнение таким образом выводится из обмена представлений человеческого ума. По его суждению, в этом случае полагается то, чего полагать никак нельзя, что, то есть, спрашивающий о том, что ему известно, между знанием полагает однако ж что либо другое вместо того, и чрез это самое вводится в обман. Стало быть, здесь нет пользы, ложные ли, или истинные мнения сообщаются человеческому уму; потому что мнящий лживо не придет к мысли, что истинные представления он заменил ложными. А как надобно судить об этом, должно быть ясно из вышесказанного (р. 199 В—200 D). И так, Сократ снова приходит к той мысли, что прежде чем будет исследовано ложное мнение, надобно с точностью определить, в чем состоит знание. Но Теэтет настаивает на прежнем положении, по которому должно видеть его в правильном мнении. Это побуждает Сократа наконец совершенно опровергнуть защищаемое Теэтетом определение знания. Взяв в пример судью и оратора, он говорит, что между знанием и правильным мнением—большое различие. Дело ораторов обыкновенно состоит не в сообщении судьям истины, а в убеждении их принять то, чего хочется самим ораторам. Не смотря однако ж на это, случается, что определения судейские оказываются справедливыми и верными, и они будут всегда таковы, если судьи постараются сохранять знание истины. Стало быть очевидно, что знание и мнение весьма различны между собою (р. 200 I )—201 С).
Приведенный этим доказательством в недоумение, Теэтет предлагает наконец третье определение знания,—полагает, что знание есть не что иное, как истинное мнение μετὰ λογου, и потом сам же дает ему троякое толкование. Однако ж Сократ ни одного из этих толкований
не находит достаточным для выражения природы знания. Первое, предложенное Теэтетом, толкование нового определения знания состоит в том, что μετὰ λόγου значит— с изъяснением , выраженным словами. Недостаточность его Сократ выводит из того, что каждый человек, как бы ни думал о предмете, может свое мнение выражать словами; а этим уничтожается всякое различие между знанием и истинным мнением, допущенное выше. После сего Теэтет иначе изъясняет свое определение: μετὰ λόγου , говорит, имеет такое значение, что целое проявляется частями , и потому исчисляются стихии вещи. Кого спросили бы, например, о природе колесницы, тот стал бы перечислять деревянные куски, из которых она построена, колеса и другие ее части; или кого спросили бы об имени Сократа, тот перечислил бы отдельные буквы и слоги, составляющие это имя. На приведенное объяснение Сократ отвечает объяснением же мнения об этих вещах, высказанного тем, кто его защищал (р. 201 D —206 D). Оно состояло в следующем: стихии и начала вещей не дают никакого определения и имеют только значение собственных имен. А что сложено из них, то может быть объясняемо и определяется этими самыми стихиями, и оттого почитается дознанным. И так, начала и стихии постигаются одними чувствами, независимо от познавательности ума; а чти> из них составлено, относительно того уместно истинное мнение, с определением и ясным познанием ума. И это самое есть знание, если только истинное мнение соответствует тем стихиям. Чтобы понять это яснее, хорошо рассмотреть слова и их стихии, то есть буквы. В самом деле, каждый слог определяется и познается при посредстве букв, из которых он состоит, буквы же только усматриваются, а не подлежат никакому определению и не познаются умом. Это суждение Сократ опровергает таким образом. Слог или состоит из одной буквы, или есть некоторое целое, происшедшее из отдельных стихий.
Если возьмешь первое, то надобно будет допустить, что имеющий верное и ясное познание о слоге должен также знать и отдельные буквы, и это знание приобрести еще прежде, чем узнал целый слог. А когда положишь, что слог есть нечто целое, состоящее из отдельных стихий,— тотчас откроется, что ты полагаешь что-то странное. Ведь слог потому только есть нечто целое, что состоит из особых, сложенных в одно букв; а целое что такое будет, как не взятые вместе части? Целым, без сомнения, называется то, в чем нет недостатка частей, требующихся для природы вещи, или что иначе означается словом все. И так целое и все —безразличны, равно как нет никакого различия между все и все. Например, все воины составляют все, то есть целое войско; все числа делают все число, или целую, полную сумму. Если же все есть целое, то явно, что и части какой-нибудь вещи суть ее целое. А из этого опять понятно, что как скоро познается целое, необходимо познаются и части, что знание какого-нибудь целого не может иметь места, если не соединится с этим ясное знание стихий, из которых оно состоит; даже знание целого будет тем очевиднее, чем точнее кто либо познает те отдельные стихии. Притом этим способом знание отнюдь не приобретается. Положим, имел бы ты точнейшее понятие о буквах, и научился бы составлять из них слоги: однако ж при начертании букв ошибка найдет себе место; ведь можно погрешить, пиша, например, имя Теэтета (р. 206 Е—208 В). Остается третий способ истолкования слова μετὰ λόγοο . Определение его может быть таково, что в нем сносятся признаки , которыми определяемое отличается от всех прочих вещей. Но и здесь также есть нечто, не избегающее порицания. Ведь если так, то будет следовать, что один человек, хорошо знающий другого, не будет знать его, не сознавая всех признаков, которыми он отличается от прочих людей, хотя совершенно знает его; а это явно противоречит
ежедневному опыту. Видно, с правильным мнением должно быть уже соединено представление признаков, которыми вещь отличается. Притом странно утверждать, что знание есть правильное мнение, соединенное с умом (μετά λόγου ) ; ибо ум принадлежит тому, кто имеет знание вещи. И так, кто сказал бы, что знание есть правильное мнение, присоединенное к уму, тот выразил бы не больше, как следующее: знание есть правильное мнение, соединенное с знанием; а этим ничто не объясняется, но определяется то же чрез то же (р. 208 С—210 В).
Опровергнув все эти определения, Сократ объявляет, что у него нет больше времени для дальнейшего рассуждения: его требуют в суд, куда должен он явиться по случаю доноса, который сделал на него Мелит. И так, прекратив свою беседу, он просит друзей, для продолжения разговора, прийти сюда же завтра (р. 210 С— D).
Вот краткое обозрение содержания в Платоновом Теэтете. Нам кажется, что им ясно подтверждается то самое, что сказано было выше о цели этой книги. Теперь становится еще очевиднее, что Платон идет здесь к раскрытию и утверждению того положения, что чувственное усмотрение для приобретения истинного знания ничего не значит, что оно никакой не приносит пользы для этой цели даже и в том случае, когда соединяется с правильным мнением и объяснением определения. И так, Теэтет имеет характер собственно полемический: он весь состоит из опровержений, последовательно направляемых против трех, показанных выше определений знания. Положительное мнение Платона о знании в Теэтете прямо не высказывается и соблюдается до раскрытия его в другой, особой книге,—в Пармениде, где представляются все формы и условия знания в идеях. Впрочем нельзя сказать, чтобы и здесь Платон не делал намеков на свою истину, не касался ее по крайней мере косвенно. Опровергая ложные мнения современных философов о знании, он этим
путем отрицания как бы разоблачает истину от чуждых ей покровов, и по местам так близко подходит к ее природе, что недостает только прямого на нее указания. Чтобы увериться в том и понять, как это у Платона делается, стоит только со вниманием прочитать, например, страницу 209. Здесь доказывается, что слово μετἀ λόγου не может быть мыслимо, как исчисление признаков, которыми известная вещь отличается от всех прочих вещей. Сократ излагает Теэтету свое доказательство следующим образом: «Имея о тебе правильное мнение, да если присоединю твой ум (разум. μετἀ λόγοο ), —я действительно знаю тебя; а без того,—вожусь одним мнением. Но ум-то был истолкованием твоего отличия. Посему, водясь только мнением, я не касался своею мыслью ни одного из признаков, которыми ты отличаешься от других; стало быть, я мыслил что-то общее, что принадлежит не больше тебе, как и другим. Объясни же, ради Зевса, как это я мнил больше тебя, чем кого-нибудь иного?» Не трудно заметить, что, опровергая значение, какое Теэтет соединяет с словом μετἀ λόγου Платон вместе с тем имеет здесь в виду, во первых, родовое понятие—человека, во вторых, частную идею Теэтета, которого он знает и не перечисляя его признаков. На эту самую мысль наводит Сократ и следующими за тем словами: «Правильное мнение о каждом предмете», говорит он, «вращается около различия. И так, прилагать ум к правильному мнению—что еще будет? Ведь если бы приказывали иметь мнение о том, чем отличается нечто от другого, то это приказание было бы смешно; потому что оно предписывало бы нам иметь правильное мнение о предметах, со стороны отличия их от других предметов, тогда как мы получили уже о них правильное мнение, если находим, чем различаются они от других. Ведь приказывать взять то, что уже держим, для изучения того, о чем уже имеем мнение, по истине свойственно человеку темному». Но то,
что служит основанием не отличия вещи от других вещей, а единства ее и тожества с собою, очевидно, есть идея, которая в душе всегда прежде мнения, равно как единство прежде отличия. Эта мысль таилась в душе Платона, как норма его рассуждений; но он не выставлял ее вперед, когда ей надлежало быть назади и, оставаясь невидимою, управлять движением мыслей о правильном мнении.
Страница сгенерирована за 0.17 секунд!